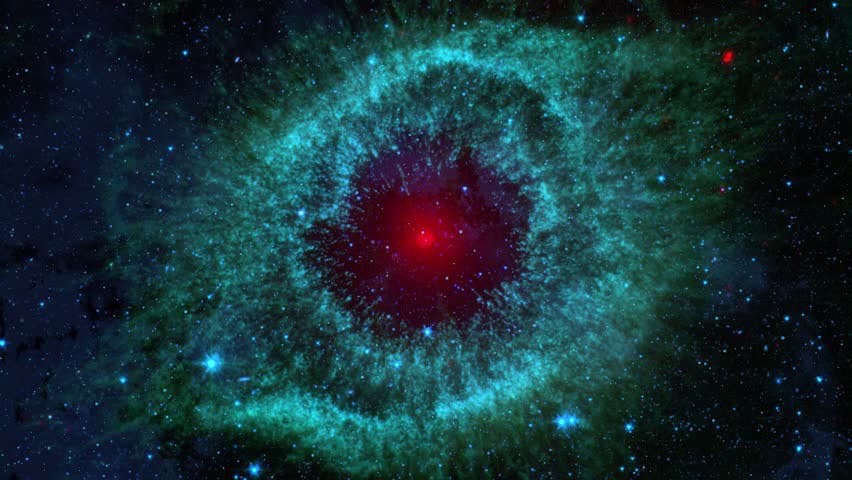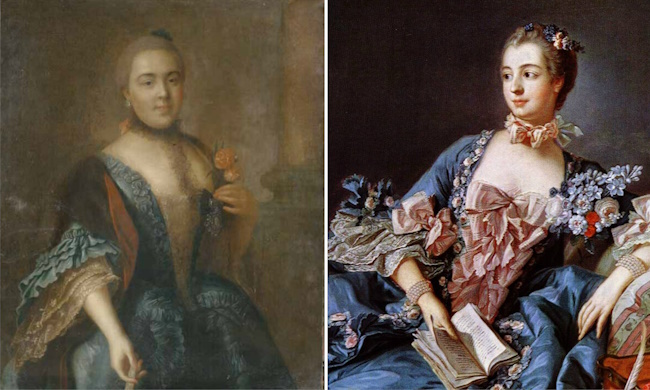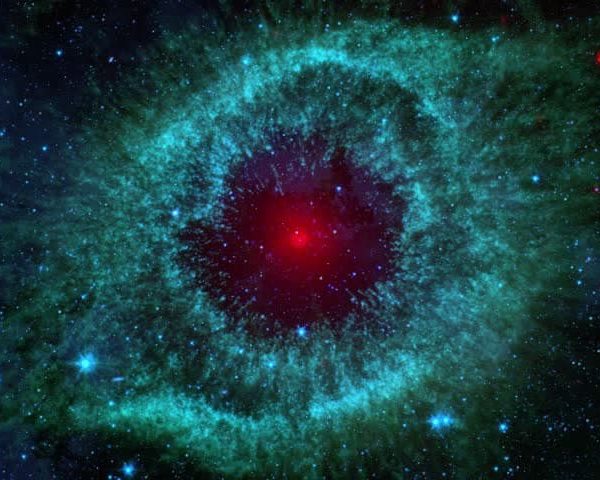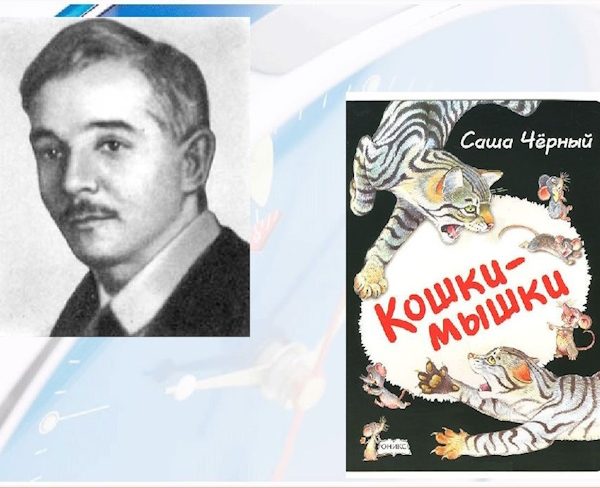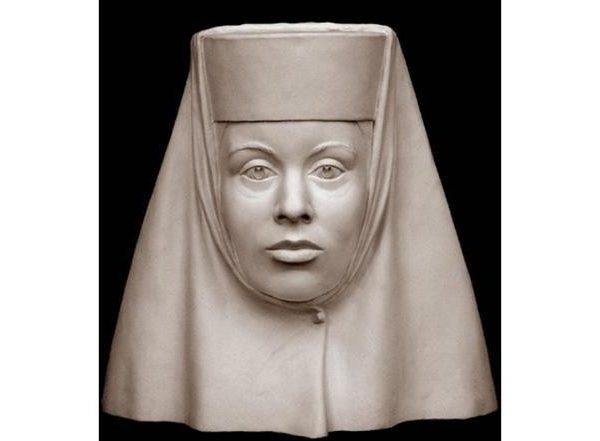«Жить сейчас Альфреду было бы безумно сложно», — Ирина Шнитке об отношениях с мужем, окружающим миром и временем.
На снимке (выше) Ирина и Альфред Шнитке, Москва, 1986© Из архива Ирины Шнитке.
Супруга выдающегося российского композитора пианистка Ирина Шнитке живет на две страны. В ноябре-декабре прошлого года в России и Германии при ее непосредственном участии прошли концерты и научные конференции, посвященные 80-летию со дня рождения Альфреда Шнитке. Тогда же в Москве небольшим тиражом вышла книга «Альфред Шнитке. Статьи, интервью, воспоминания о композиторе» (автор-составитель — режиссер Андрей Хржановский). «…Если бы в моем сознании не отпечаталась трагическая и прекрасная хроника нашего времени, я бы никогда не написал этой музыки» — гласят слова композитора, взятые в качестве эпиграфа к этому труду. Роман Юсипей встретился с Ириной Шнитке в Гамбурге во время завершения корректуры второго издания.
— Ирина, как вы оцениваете эту книгу?
— Знаете, Альфред никогда не любил помпезности. И том такого внушительного размера — немножко не про него. Но в целом работа мне кажется удачной. Замечателен и подбор авторов, оставивших свои воспоминания о муже и размышления о его музыке. Хорошими получились репродукции картин, поражает количество фотографий. Правда, не пойму, как могли сюда попасть изображения людей, которых в принципе не должно быть в книге об Альфреде Шнитке. Хотя, надо сказать, в его жизни таких персонажей было совсем немного.
— Что в этом издании для вас является самым дорогим?
— Конечно, собственные статьи Альфреда. Таких людей, чью даже устную речь можно было записывать, абсолютно не редактируя, я больше не встречала. А видела и слышала за свою жизнь я, поверьте, много. Это особый дар. В 1995-м, после третьего инсульта, в больницу к Альфреду приехал виолончелист и музыковед Александр Ивашкин с рукописью «Бесед с Альфредом Шнитке». Это, собственно, и были расшифровки обычных разговоров, которые велись с интервалами в несколько месяцев, а то и лет. Александр спросил: «У нас нет четкой структуры, много повторов. Что делать? Отдавать редактору?» Альфред дал понять, что ничего редактировать не нужно. И потом я убедилась, насколько он был прав.
Когда замолкает первоисточник, приходит время домыслов. Каких только историй о нем сейчас не найдешь в интернете. Например, о том, что, находясь в Америке, Альфред ездил в резервацию к индейцам и ставил им свою музыку. Или что в последние годы жизни для него приобрели специальный компьютер, с помощью которого он мог сочинять. Но тогда бы не было истории с Девятой симфонией, которую он писал дрожащей левой рукой. Я как-то спросила сына, можно ли эти вещи в интернете как-то исправить. Он мне сказал: «Мама, ты просто не знаешь всего, что пишут».
— Как вы относитесь к книге Шульгина «Годы неизвестности Альфреда Шнитке»?
— Меня всегда смешило это название. С Альфредом я познакомилась в 1959 году, а с 1960-го знала его уже очень плотно. Он тогда только начинал учиться в аспирантуре, но в Большом зале консерватории уже исполнялась его кантата «Песни войны и мира» для большого оркестра и хора. Кстати, это было первое и чуть ли не единственное сочинение, купленное Министерством культуры (мы жили в основном за счет музыки для кино). Там была совершенно изумительная хоровая часть. Помню разговоры старших коллег о том, что она напоминает лучшие страницы русской музыки.
В Союз композиторов Альфред поступал с ораторией «Нагасаки». Ему посоветовали предварительно показать это сочинение Дмитрию Кабалевскому. Тот прослушал с нотами запись и очень похвалил работу. А буквально на следующий день дико разругал на заседании приемной комиссии. Альфреда тогда в союз тем не менее приняли, но шок остался. На протяжении всей жизни он так и не смог понять, что большинство людей не такие, какими они ему представляются…
— Чем в те годы определялась успешность композитора?
— Карьера, награды, премии — все это Альфреда никогда не интересовало. Хотя, когда я сейчас приезжаю в Москву, частенько выкладываю перед собой все его ордена — такие они красивые (смеется).
Приоритетными были исполнения. Прежде всего, важно было наконец услышать в концертном зале то, что ты написал. С другой стороны, очень волновало восприятие публики. Я помню случаи, когда половина зала могла уйти во время исполнения. Зато оставшаяся половина становилась тем ядром, из которого впоследствии формировалась публика Шнитке. И в этом понимании успех к нему начал приходить довольно быстро, где-то сразу после премьеры Первой симфонии (спасибо Родиону Щедрину, который подписал письмо о том, что ее можно играть в Горьком). Помню, туда съехалось совершенно безумное количество людей. Перед нами сидели две очень пожилые дамы. Одна другую поначалу все время дергала: давай уйдем — не могу я это слушать. Затем они затихли, а когда все закончилось, вскочили и стали бурно аплодировать. А потом признались, что, хотя ничего в этой музыке не понимают, понравилась она им безумно.
В день премьеры кантаты «История доктора Иоганна Фауста» возле Зала имени Чайковского дежурила конная милиция. На одном из первых авторских концертов мужа в Московском доме композиторов выломали входную дверь. Зал просто не вмещал всех желающих. Когда в Пушкинском музее впервые исполнялись хоровые «Стихи покаянные», после окончания первые две-три минуты стояла гробовая тишина. Потом люди начали вытирать слезы.
— В Москве Первую симфонию Геннадию Рождественскому удалось исполнить, по-моему, только спустя лет пятнадцать после горьковской премьеры…
— Да. Если я не ошибаюсь, Геннадий Николаевич в то время был выдвинут на какую-то очередную награду. Тихон Хренников сидел тогда в директорской ложе и посредине исполнения вышел. Непонятно, зачем он потом лгал о том, что лично заботился о здоровье Альфреда, когда у того в 1985-м случился первый инсульт в Пицунде (Альфред вообще заболевал именно тогда, когда делал перерыв в работе). К нам тогда срочно прилетел Леонид Михайлович Рошаль, затем Александр Александрович Потапов из Института Бурденко. Гагринская больница тех лет — кошмар, который не привидится в самом страшном сне. Все лекарства присылались из Москвы. Потапову удалось перевести Альфреда из Гагр в нормальную больницу в Сухуми. Но от имени союза обо всем этом хлопотал Владимир Панченко, который, в отличие от Хренникова, очень любил Альфреда и его музыку.
— Вы упомянули об истории с Девятой симфонией. Могли бы вы рассказать подробнее о ее премьере?
— Геннадий Николаевич Рождественский с супругой приехали к нам в Гамбург в тот момент, когда Альфред с огромным трудом закончил это сочинение. Правая рука уже не работала, левой он никогда не писал — а пришлось. Геннадий Николаевич, просмотрев партитуру, сам предложил расшифровать этот малопонятный почерк. Весной 1998 года он прислал нам партитуру по почте. Забегая вперед, скажу, что Альфреда не стало 3 августа. Вполне естественно, что чувствовал себя он в разные дни по-разному. Когда пришли ноты, Альфред открыл начало, полистал немного и махнул рукой: мол, можно играть. Потом, ближе к июньскому исполнению, смотрю — он сидит, все смотрит целиком. И, просмотрев полностью, играть сочинение категорически запретил.
Я позвонила Мстиславу Ростроповичу, поскольку концерт проводил связанный с ним фонд, и предложила исполнить Восьмую симфонию, которая в то время в Москве еще не исполнялась и, кстати, была посвящена Рождественскому. Ростропович сказал, что решать вопрос нужно с Геннадием Николаевичем.
Тот ответил, что изменить ничего нельзя — оркестр уже репетирует. Я попала только на генеральную репетицию и, честно говоря, пришла в ужас от того, что услышала. В перерыве пришла к Рождественскому в артистическую, просила какие-то фрагменты убрать, что-то подкорректировать, что-то затушевать динамически. Во время второй половины репетиции Геннадий Николаевич оставил все как было. А в конце обернулся ко мне и спросил: «Теперь все в порядке?» Я не автор, я только жена. И при всей публике ответить: «Простите, Геннадий Николаевич, вы ничего не сделали из того, о чем я просила», конечно, не смогла. Сказала, что все в порядке.
Потом привезла запись Альфреду. До конца он ее не дослушал. Отшвырнул партитуру и жестом попросил выключить магнитофон. Я отвезла Альфреда в кабинет и не успела сделать несколько шагов от двери, как услышала, что он в голос рыдает.
Я написала письмо Геннадию Николаевичу — в самых вежливых тонах. О том, что Альфред стопроцентно ему доверял и я надеюсь, что они снова встретятся и найдут какой-то компромисс. Ответа не последовало. Вскоре мне позвонили из издательства Sikorski и сказали, что Геннадий Николаевич объявляет в концертных программах свою версию Девятой симфонии. И спросили, разрешаю ли я ее исполнять. Я ответила: нет. Спустя время ко мне обратилась Сати Спивакова: «О симфонии ходит столько слухов. Давай сделаем передачу, и ты подробно расскажешь, как все было». Я рассказала…
До сих пор не понимаю, что это было — там, на премьере. Да, может быть, это не лучшее сочинение Альфреда, притом написанное неразборчиво, левой рукой. Но ведь Александру Раскатову потом, с лупой, все-таки удалось расшифровать то, что Альфред написал. И он не додумался вставлять в партитуру что-то от себя. А Геннадий Николаевич мало того что добавил отсебятины, так еще сделал какой-то посыл к Первой симфонии, чего в принципе быть не могло. Альфред в творчестве никогда не возвращался к тому, что уже было написано. Геннадий Николаевич всегда подшучивал над Евгением Светлановым, который, видите ли, «мнил себя композитором» (Светланов, кстати, окончил композиторский факультет, то есть был профессионалом). Но как можно было в таком случае себе позволить такие вещи?
Рождественский — гениальный дирижер, удивительно эрудированный человек. Я думаю, ему просто не хватило тогда времени. Возможно, он начал расшифровывать и в какой-то момент от усталости махнул рукой. Но он всегда мог мне позвонить и сказать: «Ирина, я считаю, что это сочинение исполнять не нужно». Или «я разобрал немножко, но мне не хватает сил». Или найти в своем графике один день, чтобы приехать к нам в Гамбург и просмотреть с Альфредом партитуру. Этого не произошло… Печальнее всего то, что если бы Альфред мог говорить, Геннадий Николаевич никогда не посмел бы сделать то, что сделал. Хорошо, я — плохая, рассказала всему миру о том, что случилось. Но музыку Шнитке, которую Рождественский всегда считал гениальной, почему он перестал играть? Она утратила свою гениальность?
— Вы находите разрыв отношений с Рождественским большой утратой?
— Музыку Альфреда продолжают играть замечательные исполнители и дирижеры. Например, удивительный Владимир Юровский, дирижер большого таланта, человек интересный, глубокий и, мне кажется, в правильном направлении мыслящий. Не знаю, как дальше он будет развиваться, но пока это очень серьезный, тонкий музыкант. Кроме того, музыку Альфреда продолжают исполнять Наталия Гутман, Гидон Кремер, Юрий Башмет, Саулюс Сондецкис — этот ряд можно продолжать очень долго. Появились талантливые молодые музыканты, играющие произведения Шнитке во всем мире.
Отдельно хочется сказать об Александре Ивашкине, который был большим другом Альфреда и замечательным исполнителем его сочинений. Когда читаешь его статьи, аннотации, книги, поражает глубокое проникновение в музыку Шнитке. О том, что заложено в музыке Альфреда, я знаю непосредственно от мужа. Но как все это удалось прочувствовать Александру?
— Вам не хватает Владимира Крайнева?
— Очень жаль, что его не стало. Хотя, честно говоря, я никогда не была поклонницей его интерпретации Фортепианного концерта. Сейчас скажу, в чем дело. Владимир был выдающимся виртуозом, учеником Нейгауза — это, конечно, сказывалось. Но в любом исполнении проявляется натура, естество человека. От этого никуда не уйдешь. Например, Владимир Юровский и Теодор Курентзис принадлежат к совершенно разным типам личности, и это сказывается в их дирижировании. У Крайнева Фортепианный концерт звучит красиво и по-своему очень убедительно. Но он принадлежал к тому поколению советских музыкантов, для которых современная музыка всегда ассоциировалась с жестким, порою даже чуть грубоватым исполнением. Слава Богу, со временем это изменилось. Сейчас музыку современных авторов уже играют с другим отношением.
— Насколько глубоко вам приходилось вникать в то, что делал супруг?
— В пору, когда мы только начали встречаться, я была воспитана на классической музыке. И когда Альфред мне ставил записи Лигети, Ноно или Берио, честно признаюсь, воспринимала эти произведения с трудом. Современная музыка проявлялась для меня постепенно, как переводная картинка. Потом уже ты просто не понимаешь, как раньше могла не слышать всего этого.
В работу мужа я старалась никогда не влезать. У меня есть знакомая пара, где муж — очень известный композитор. Когда они приходили к нам в гости, жена постоянно говорила: мы пишем сейчас то, работаем над этим. Меня всегда это очень забавляло. Я могла сказать Альфреду, что в его музыке мне нравится, а что наоборот — и почему. Но когда он работал, предлагая мне на выбор разные варианты фрагментов сочинений, я всегда повторяла: «Ты хочешь переложить на меня ответственность?» Он отвечал, что полагается на мою интуицию. И в конечном итоге оказывалось, что наши интуиции совпадают.
Вмешаться я попыталась только один раз — когда Юрий Петрович Любимов предложил мужу сотрудничество в постановке «Пиковой дамы» Чайковского. Я тогда впервые сказала: «Зачем тебе это надо? Зачем тратить время на то, что ничего, кроме неприятностей, не принесет?» Оказалось, я была права. Собственно, ничего, по большому счету, сделано и не было. У меня до сих пор хранится клавир «Пиковой дамы», где карандашом мужа были отмечены купюры и материал, который должен быть вынесен в антракты для исполнения в фойе на клавесине. Потом появилась эта безобразная статья в «Правде» за подписью Альгиса Жюрайтиса… Позднее эта версия «Пиковой дамы» ставилась неоднократно. Но не в России.
— Вам часто приходилось спорить?
— Замечательный скрипач Олег Крыса как-то наблюдал нашу легкую перепалку, когда был у нас в гостях. И сказал: «Ребята, у вас у обоих такие сильные характеры, что непонятно, как вы друг с другом столько лет прожили». Может быть, это подходило личности Альфреда, потому как он прожил со мной 38 лет… Я считаю, что, какой бы сильной по характеру ни была женщина, мозги при этом нужно иметь. То, что можно высказать наедине, никогда не должно произноситься на людях.
Когда мы познакомились, я сразу почувствовала в Альфреде невероятный внутренний потенциал. Не только музыкальный: он был человеком, интересующимся практически всем, в том числе философией, религией, литературой, живописью. Любил войти вглубь всего, что читал, изучал. Мы это обсуждали и довольно часто спорили.
Кстати, особенно много споров у нас было по поводу Шостаковича — дискуссий, скорее, не музыкального, а человеческого плана. Мне, например, было непонятно, зачем Шостакович вступил в КПСС. Я выросла в семье, где бабушка еще могла рассказать о жизни до 1917 года и тайком водила меня в храм… Та же ситуация с подписанием коллективных писем. Ирина Антоновна, супруга Дмитрия Дмитриевича, потом, правда, говорила, что он ничего не подписывал — подписи появлялись без его ведома и помимо его воли. Но ведь и нам тоже звонили, просили Альфреда приехать в союз, подписать письмо против того же Сахарова. Альфред никуда не ехал, и его подпись нигде не появлялась.
Муж говорил, что Дмитрий Дмитриевич принадлежал к поколению, пережившему жуткие 1930-е годы, в нем остался тот страх. Я еще понимаю, если бы в ту же партию он вступил сразу после разгрома оперы «Леди Макбет Мценского уезда» и Четвертой симфонии. Но делать это в 1960-м… Ради чего?
— Вы верите в подлинность «Свидетельства» — воспоминаний Дмитрия Шостаковича, записанных и отредактированных Соломоном Волковым?
— Я хорошо помню Соломона и поэтому не склонна излишне доверять тому, что он пишет и что высказывает. Это очень внешний человек. Что-то, может быть, в его книге и соответствует действительности. Но даже при этом есть вещи, о которых совсем не обязательно говорить. Самое важное — это гениальная музыка Дмитрия Дмитриевича.
— Наверное, Шостаковича и Шнитке можно назвать лидерами по исполняемости среди российских композиторов второй половины XX века?
— Может быть. Из живущих Альфред в свое время выходил на первое место. Сейчас не знаю. Ведет статистику GEMA. Издательство Sikorski мне присылает лишь регулярные отчеты об исполнениях. Во всяком случае, если каждый месяц музыка Шнитке в мире звучит до пятнадцати раз, это замечательно. Причем исполнения в России не учитываются вообще. Альфред в договорах специально оговаривал: издательству принадлежат права во всех странах, кроме России.
Конечно, больше исполняется камерная музыка. В последнее время часто приходится слышать о том, что нет денег для организации оркестрового концерта. Какая из симфоний мужа мне нравится больше всего? Пожалуй, даже не Первая, которую все так любят. Я бы назвала Вторую («Сан-Флориан»), Третью («Немецкую»), Четвертую и, конечно, Восьмую.
— Что, по-вашему, определяет успех композитора сейчас?
— Находясь в Германии, я на этот вопрос ответить не могу. Нет, музыку Шнитке немецкая публика принимает замечательно, все слава Богу. Но на других концертах, порой с плохими солистами и оркестрами, происходит примерно то же самое. Успех ли это?
Во время декабрьского фестиваля в Москве я наблюдала полные залы, даже когда в один день устраивались два концерта и в программе не было знаменитых имен. Интересная картина: половина зала — пожилые люди, половина — молодежь. А вот середина — между 35 и 50 годами — куда-то провалилась. На мой взгляд, 1990-е годы этому поколению сломали крылья.
— Вы не жалеете о том, что в свое время переехали в Германию?
— Мы никуда не переезжали. У меня до сих пор квартира в Москве. Там все как было, так и осталось. В 1989-м Альфред получил годовую стипендию Берлинской научной коллегии. Нам предоставили квартиру в Берлине. Условием было написать за этот год новое сочинение, и Альфред написал Второй виолончельный концерт для Мстислава Ростроповича. Кстати, Альфред никогда не посвящал музыкантам свои произведения, если об этом не просили сами исполнители. Он не хотел никому навязывать свои сочинения.
Тогда же в Гамбурге из Высшей школы музыки ушел Дьердь Лигети, и на освободившееся место рекомендовали Альфреда. Тем временем в СССР начали происходить самые бурные события. Когда мы приезжали в Москву, раздавались телефонные звонки с антисемитскими угрозами. Одним словом, мы решили переждать неспокойный период в Германии. Думали, пробудем тут года два-три, пока все уляжется. В 1991-м у мужа случился второй инсульт (слава Богу, он от него быстро отошел). А в мае 1994-го — третий. Так мы здесь и застряли.
— В Гамбурге функционирует Общество имени Альфреда Шнитке во главе с композитором Эльмаром Лампсоном (до конца 2014-го его возглавлял скрипач Марк Лубоцкий). Также в городе существует Академия имени Альфреда Шнитке…
— До начала 2014-го академией руководил брат Эльмара, Хольгер Лампсон. Это был светлый, вдумчивый человек. С ним было очень приятно общаться, он постоянно устраивал концерты, организовывал встречи. Приглашал Джона Ноймайера рассказать о создании балета «Пер Гюнт» на музыку Альфреда (муж так и не успел поставить с ним балет «Нарцисс и Гольдмунд» по Герману Гессе). Трижды проводились конкурсы молодых пианистов… Хольгера не стало в ночь на 1 февраля 2014 года. По какому-то мистическому совпадению в эту же ночь в Лондоне скончался Александр Ивашкин.
— Вы могли бы сейчас дать некое определение музыке Альфреда Шнитке?
— Сложный вопрос. Альфред из тех композиторов, которых никогда не волновали какие-то внешние, описательские моменты. Главное в музыке, на мой взгляд, — внутренняя философия автора, его отношение к жизни, событиям, истории, культурам, религиям. Когда в музыку вкладывается все это, получается нечто очень серьезное.
Мне кажется, само время, когда интенсивно работал Альфред, — 60—70—80-е — представляло собой взрывной творческий сгусток не только в музыке, но и в поэзии, живописи, театре. Потом все как-то выровнялось, причем на очень добротном, профессиональном уровне. Но и только.
— Может, дело было в сопротивлении системе?
— Действительно, давление чиновничьего аппарата, который душил и требовал чего-то оптимистичного и веселенького, сближало серьезных музыкантов, поэтов, артистов, режиссеров, толкало их друг к другу. И образовывалась среда невероятно талантливых людей. Происходило взаимное обогащение.
— Возникали тройки…
— Какие тройки? Это бред, абсолютная выдумка. О существовании Московской авангардной тройки можно говорить только в одном аспекте: Эдисону Денисову через заграничных друзей приходили ноты и записи, которые невозможно было достать в Москве. Помню, как мы собирались в подвале у Манашира Якубова, слушали запись «Моисея и Аарона» Шенберга, листали партитуру. Но, в принципе, у каждого был свой круг. С Денисовым у нас вообще были очень сложные отношения. Человек он был непростой. Не хочу сейчас даже пытаться характеризовать его качества. Ему было трудно жить даже с самим собой. София Губайдулина держалась всегда немножко в стороне. Ее окружали Петр Мещанинов, Виктор Суслин.
Да и Альфред был как бы сам по себе. Кроме музыкального таланта он имел еще талант чисто человеческий. Относился ко всему с каким-то особым терпением и пониманием. Даже про того же Хренникова, который всячески мешал исполнению музыки Шнитке, когда я в очередной раз стала жаловаться, он как-то сказал: «Слушай, ему вовсе не должна нравиться моя музыка». Но ведь дело не в том, что нравилось или не нравилось чиновнику от искусства, а в том, что он был наделен властью решать.
— Поражает перечень жанров, в которых с одинаковым успехом работал Альфред Гарриевич. Что вообще, по-вашему, есть профессионализм композитора?
— Здесь, конечно, важны и качество таланта, и его количество. Но огромную роль играет и натура художника. Альфред, например, был убежден, что на абстрактную живопись имеет право лишь тот человек, который в совершенстве владеет рисунком и разными техниками. Поэтому и у него самого сначала идут очень разные по стилю сочинения. Он считал, что все надо уметь. И лишь изучив, попробовав все, можно выйти на свой собственный путь. Так у него и вышло.
Если человек патологически честен, он остается таким же честным и добросовестным во всем, что делает. Музыку к спектаклям или кино — то, что многие композиторы называют халтурой, — Шнитке писал с той же отдачей, что и свои «серьезные» сочинения.
К тому же Альфреду была свойственна такая вещь, как природное чутье оркестра, — при том что он умел играть только на рояле. Скрипачи поражались, как он может писать так удобно. То же с альтом. Правда, Юрий Башмет вначале сказал, что Альтовый концерт практически неисполним. Но потом сам же объездил с этим сочинением весь мир. Да и нынешние молодые исполнители играют его без каких-либо особых проблем.
— Душевная чистота, неравнодушие, которые проецировались на музыку Альфреда Шнитке, — как все это рифмуется с нынешним временем?
— Боюсь, что жить сейчас Альфреду было бы безумно сложно. Да и мне, откровенно говоря, непросто. Вы знаете, что в немецком языке вообще нет слова «порядочность»? По крайней мере, в том смысле, в котором мы привыкли его употреблять в России. Из европейского обихода исчезают представления даже об элементарной честности, деликатности, сочувствии, скромности — о том, что раньше считалось достоинствами человека. Сейчас важны имидж и коммуникабельность…
Да, я помню, как угнетала мужа советская действительность. Например, увидев его на улице, я не могла позвать его по имени. Просто не могла на российской земле кричать: «Альфред!».
— И как звали?
— Никак. Догоняла его молча, и всё. Бремя того, что он был одновременно евреем и немцем, давило на него постоянно. Поэтому, когда ему удавалось выехать в Вену — город его детства, — он словно перерождался. Как будто какая-то тяжесть с него падала. А вот буквально через два года после отъезда в Германию он мне сказал: «Знаешь, пожив здесь, я понял, что я — русский композитор. И вообще русский человек».
К сожалению, Россия сейчас все копирует у Запада. В той же Москве меня огорчает какое-то ужасно формальное и даже хамское отношение людей друг к другу. Когда я включаю российское телевидение (немецкое я давно перестала смотреть) и там мне рассказывают о том времени, в котором я жила и которое знаю, я не понимаю: то ли мне врут, то ли я обитала на другой планете.
Впрочем, сын мне недавно так и сказал: «Мама, ты жила в совершенно другой жизни, в другом мире». Так вышло, что меня сейчас и в Гамбурге, и в Москве в основном окружают 40-летние люди. И происходящее с ними меня тревожит. Мы с Альфредом могли спорить о книге. Но то, чем живут люди сейчас и как они друг к другу относятся… Я не понимаю, как такое возможно.
Не понимаю, чему учат в немецкой школе. Моей внучке 27 лет. Когда я стала расспрашивать ее о немецкой философии, литературе, художниках, выяснилось, что она очень мало знает. Урок литературы у них был один раз в неделю, объединенный с немецким языком.
Я уже давно поняла: не важно, какой крови человек. Важно то, что он в себя впитал, воспринял, что прочел, чем дышит. Люди, которые с детства были приобщены к книгам, искусству, — они другие. У них иное мышление, иные отправные точки в жизни.
— Что для вас «хороший человек»?
— Человек честный, искренний. Это не так часто встречается. Вообще людей, которые говорят только правду, — единицы на миллионы.
— Постоянно говорить правду сложно…
— Нет, просто. Очень-очень просто. В детстве мне приходилось иногда обманывать родителей, так как они одну меня никуда не пускали. Потом, когда стала общаться с Альфредом, поняла, что лгать ни к чему. И с тех пор стараюсь так жить. Да, многим неприятно, когда ты высказываешь нечто, идущее вразрез с их точкой зрения. Но каждый выбирает для себя то, что ему дороже. Поэтому я не состояла в партии, отказывалась от возможности работать в Министерстве культуры. Надо мной никогда не было начальника. И Альфред жил точно так же — помимо советской власти. Он сочинял то, что хотел. Какой-нибудь Хренников мог сказать: это сочинение в Москве исполняться не будет. Хорошо, не будет в Москве — значит, прозвучит в Казани или еще где-нибудь и когда-нибудь.
В Воронеже однажды запретили исполнение Второго скрипичного концерта. На афишу перед входом в филармонию приклеили объявление о том, что концерт отменен по причине болезни исполнителей. Знаете, что сделали дирижер Арнольд Кац, солист Марк Лубоцкий, которому посвящено это сочинение, и приехавший на исполнение Альфред? Все трое встали перед началом концерта под этой афишей. Марк — со скрипкой. Всегда можно жить помимо того, что давит сверху.
— Я вижу в вашем доме много книг Иосифа Бродского…
— Альфред очень любил его поэзию, ходил в 1960-х на вечера, где тот читал свои стихи. Я один раз пошла тоже, но мне жутко не понравилась специфическая манера декламации. А познакомились они, когда Бродский жил уже в Америке. В 1988-м мы были в Нью-Йорке, и Владимир Фельцман предложил поехать к Иосифу Александровичу домой. Альфред уехал утром, а вернулся вечером, привезя с собой пять книжек, подписанных автором. Обсуждали разные темы, Бродский читал свои стихи — все в той же манере. Они очень хорошо понимали друг друга. Альфред хотя и был очень остроумным человеком, но веселым его вряд ли можно было назвать. С Бродским то же самое.
Потом появились «Пять афоризмов» для фортепиано. Муж хотел, чтобы каждую часть исполнитель предварял чтением поэзии Бродского… В последние годы жизни он обращался к ней особенно часто. Когда случился третий инсульт, я читала ему в московской больнице эти стихи каждый день. Читала все подряд. И Бродский для меня вдруг проявился — как когда-то современная музыка.
Ирина берет с полки сборник «Урания» с дарственной надписью автора:
«25-е мая 1988 г. Нью-Йорк. Дорогому Альфреду Шнитке — вместо снотворного от автора. Иосиф Бродский».
Внизу примечание: «Прошу обратить внимание на худ. произведение на стр. 163 (помесь Беккета с Глинкой?) И.Б.»
Стихотворение называется «Муха». Посвящено Альфреду и Ирене Брендель.
«Пока ты пела, осень наступила.
Лучина печку растопила.
Пока ты пела и летала,
похолодало.
Теперь ты медленно ползешь по глади
замызганной плиты, не глядя
туда, откуда ты взялась в апреле.
Теперь ты еле
передвигаешься. И ничего не стоит
убить тебя. Но, как историк,
смерть для которого скучней, чем мука,
я медлю, муха…»
Роман Юсипей.