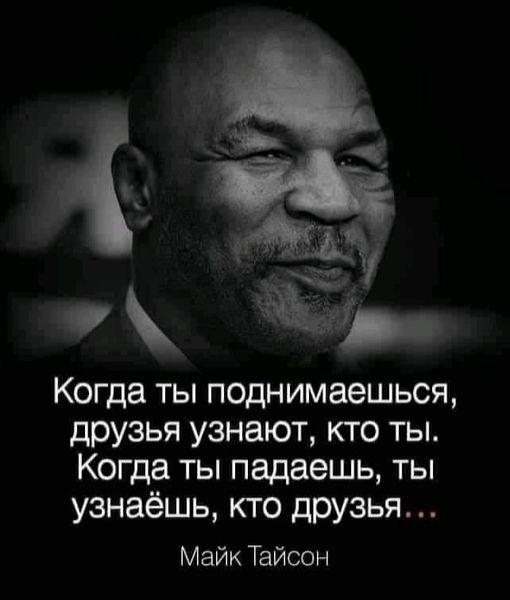Кручусь как девушка по вызову. Поэт Игорь Губерман — о великом и могучем.

В начале ноября в Москве прошли творческие вечера поэта Игоря Губермана. Обозреватель "Недели" Елена Лория встретилась с автором знаменитых "гариков" и расспросила его о том, что он думает о сегодняшней России, о своих нынешних соотечественниках и о трансформациях русского языка.
С утра до тьмы Россия на уме,
а ночью — боль участия и долга;
не важно, что родился я в тюрьме,
а важно, что я жил там очень долго.
(Первый Иерусалимский дневник)
неделя:Игорь Миронович, в сентябре вы были на книжной ярмарке во Львове. Новую книгу представляли?
Игорь губерман: Во Львове я представлял Израиль и "Путеводитель по стране сионских мудрецов". Эта книга об Израиле, частично — путеводитель, но в основном мысли, всякие впечатления, рассказы. При этом в книге все места значимые описаны.
н: Почему же вас не было на книжной ярмарке в Москве?
Губерман: Потому что не позвали. Я ведь живу как девушка по вызову.
н: За событиями в России следите? Вот вы приехали в Москву, а здесь уже новый мэр.
Губерман: Я каждое утро, когда просматриваю свою почту, смотрю еще и новости. Поэтому в курсе всего, что здесь происходит. И то, как на Лужкова сейчас все окрысились, это нехорошо. Нечестная реакция. Ну, чего вы все раньше ничего не говорили, чего раньше молчали! Кстати, Лужков был изумительный хозяйственник. Моя покойная теща, по-моему, очень правильно говорила, что он прекрасный домоуправ.
н: Живя в Иерусалиме, вы скучаете по Москве?
Губерман: По городу — нет, только по людям. У меня здесь друзья, по ним я немножко скучаю, но ностальгии нет ни грамма и ни разу не было за 22 года. Я думаю, что ностальгию придумали русские эмигранты, которые уезжали из цветущей России. Набокову было что вспомнить, и Бунину было что вспомнить, и Куприну было что вспомнить. А так, ностальгия — придуманная штука. Я практически не встречал людей, к мнению которых стоит прислушиваться и которые испытывали бы ностальгию. Потом, я очень полюбил Израиль, я — уже израильтянин. Я Россию не разлюбил нисколько, у меня душа, не разрываясь, привязана к обеим странам. Но, знаете, это разные чувства. За Израиль я испытываю страх и гордость, а за Россию — боль и стыд. Но я надеюсь, что поколения через два что-нибудь переменится.
н: Что-то вас в России сейчас радует?
Губерман: Я очень люблю смотреть на молодых на улицах. У них походка прямая, у них взгляд спокойный, наглый. Они уже свободные люди.
н: Изменились?
Губерман: Очень, очень. Плечи распрямились, взгляд совершенно другой — неиспуганный. Страха стало меньше, внутреннего дикого страха. И вот я очень на ваше поколение надеюсь. А главное — на ваших детей, и внуков, и правнуков.
н: В Израиле вы ощущаете эту внутреннюю свободу? И как именно?
Губерман: Прежде всего я абсолютно не боюсь полиции. Я ее просто не замечаю. А здесь я настораживаюсь при виде милиционера. Сейчас, кроме моего прошлого знания, прибавилось новое. Потому что я читаю в прессе, чем порой кончаются встречи с милицией. В Израиле я не боюсь ночного звонка в дверь, я точно знаю, что презумпция невиновности будет соблюдаться свято. В России, боюсь, никакой суд мне не поможет. То есть мне вообще здесь никто не поможет, если со мной что-нибудь случится. Мне не помогут врачи, если у меня нет денег. Мне не помогут окружающие, потому что им на меня наплевать. Израильтянам, американцам тоже на меня наплевать, но, как только я упаду на улице, народ столпится.
н: Там более отзывчивые люди?
Губерман: Я даже не знаю. Может быть, расслабленные…
н: Вы написали книгу про лагерную жизнь, довольно часто рассказываете о лагере на своих концертах. Почему вы так спокойно о нем вспоминаете? Ведь для многих это такая закрытая страница…
Губерман: Понимаете, я же сидел не в тех лагерях, в которых сидели наши отцы и деды. То были убийственные лагеря, истребительные. А я сидел в лагере, где умереть было нельзя.
Незнакомая особь
Нет, я на судьбу не в обиде,
и жизнь моя, в общем, легка;
эстрада подобна корриде,
но я — оживляю быка.
(Гарики предпоследние)
н: Какая публика лучше откликается — израильская или российская?
Губерман: Лучше всех — российская публика. И не только московская, она замечательная абсолютно во всех городах. У российской публики сохранилась привычка уважительно относиться к слову, слушать, чувствовать слово. С точки зрения выступателя, российская публика лучше всех. Понимаете, уехавшие очень быстро становятся членами потребительского общества. И прямо в глазах читается: я за тебя заплатил 20 рублей, вот ты перекувырнись.
н: Кто для вас самый лучший слушатель? Женщины или мужчины, молодые или старые?
Губерман: Нельзя обобщать. Моя бабушка правильно говорила: не обобщай — обобщен не будешь. Но самый лучший слушатель — это то, что мы раньше называли научно-технической интеллигенцией — НТИ. Таких в Германии дико много — за детьми потянулись, в Америке. Думаю, что и здесь тоже. Я ведь не спрашиваю профессию своих слушателей. Но думаю, что в основном это инженеры, врачи. В основном ходят 50-летние, которые прихватили мои стишки еще в самиздате, 40-летние, которые почитали сейчас. И молодых довольно много. Иногда просто целый зал молодежи! Но я боюсь, что ходят они не из-за волшебных моих строчек, а чтобы послушать свободного человека, который неформальную лексику несет со сцены. Они просто наслаждаются. Человек вообще получает удовольствие от вида незнакомой особи.
н: А вы для них, думаете, незнакомая особь?
Губерман: Непривычная, скажем, особь. Конечно, есть сейчас в России поэты, использующие ненормативную лексику. Но… это ужасно. Потому что очень часто это мат ради мата. На мой взгляд и вкус, это просто мерзко. И мне такие вещи неинтересны на самом деле. В употреблении мата важно, чтобы это было изобретательно. Я знаю людей, которые виртуозно владеют матерной техникой. Это дико красиво.
н: Виртуозному мату можно научиться или это некие природные способности?
Губерман: Я думаю, что этому можно легко научиться, но будучи в специфической среде — среди моряков, среди лагерников опытных. И это ужасно красиво. Когда при мне впервые сказали: "Е..сь ты конем через семь гробов с присвистом в центр мирового равновесия", — я был в восторге.
н: Это даже сложно повторить…
Олбанский — это фраерство
Очень много во мне плебейства,
я ругаюсь нехорошо,
и меня не зовут в семейства,
куда сам бы я х.. пошел.
(Первый Иерусалимский дневник)
н: Ненормативная лексика — ваш "фирменный стиль". Вы ее используете в таких количествах оттого, что невозможно передать эмоции другими словами?
Губерман:Во-первых, не в таких количествах, как кажется. Просто она поражает зрителей. Люди сначала вздрагивают, а потом нормально все воспринимают. Ведь это естественная часть великого и могучего. Та ненормативная лексика, которую употреблял Венечка Ерофеев, великий русский писатель, плюс Юз Олешковский, огромный русский писатель, — на мой взгляд, эта ненормативная лексика при полном совпадении слов совершенно не та, которую употребляет 13-летний мальчонка, который курит в подъезде и хочет показать девочке Лизе, что он уже половозрелый. Или работяга на работе. Знаете, у Маркса есть ужасная ошибка, и очень интересная. Он написал, что религия — это вздох угнетенной твари. Не религия, а неформальная лексика — это вздох угнетенной твари.
н: Получается, без этой лексики не может прожить ни интеллигент, ни работяга, но каждый употребляет ее по-своему?
Губерман:У меня в книжке есть история про семью, которая уехала в Америку. Там бабушка-филолог, вся такая доминантная, дочка, зять и внук. В Америку приехали, когда внуку был год (сейчас ему, наверное, лет десять). Дети работают. Внука воспитывает бабушка. И она ему рассказывает о великом городе на Неве — по-русски. У мальчика к тому времени, когда он подрос, прекрасный русский язык образовался. И как-то они были в гостях. Мальчик читал наизусть первую главу "Евгения Онегина", все восторгались. Были там семьи, которые просто зубами скрежетали от зависти к русскому языку этого мальчика. А потом мальчик с бабушкой выходят на улицу, идут к машине. Вторая половина декабря, гололед, и он говорит: "Однако, скользко на дворе. Бабушка, дай, пожалуйста, руку. По крайней мере, нае…мся вместе". А рос он в тепличных условиях, ни с кем не общался по-русски. Так что впитал все это буквально из воздуха, и это замечательно!
н: Вам выступления дают что-то, помимо заработка? Эмоции, впечатления…
Губерман: Я вообще-то выступать не очень люблю. Для меня это — средство кормить семью. Но во время выступлений я получаю замечательные записки, получаю время от времени какие-то истории воспоминательные.
н: То есть подпитываетесь в творческом плане?
Губерман: Да. И не только этим. Еще и великим, могучим, правдивым и свободным, который здесь, в России, сильно меняется.
н: Это так заметно? Когда живешь в языковой среде, не очень обращаешь на это внимание.
Губерман: Меняется. Смотрите, как по-разному звучала бы одна и та же фраза в начале 60-х годов и сейчас: мальчик склеил в клубе модель. Правда же? Абсолютно разные вещи, а вот вам. Язык — это такая стихия, он живет сам по себе. Он то впитывает какие-то слова, то через некоторое время отторгает их. Ну вот, к примеру, в 50-е годы были слова "чувак", "чувиха", а потом они просто исчезли. А в 20-е годы какие были глаголы! Шамать, например.
н:Шамать?
Губерман: Шамать — это "есть". Много чего было. И сейчас появляются такие слова. Они исчезнут. Или не исчезнут, если они как-то соответствуют духу времени.
н:Олбанский вроде уже исчезает…
Губерман: Этот язык мне очень не нравится. У кого-то есть замечательная строчка "изыски деревенщины". Но это пройдет очень скоро. Есть ведь пижонство высокое, а есть пижонство ужасно низкое, такое фраерство. Вот я думаю, что этот язык — это низкое пижонство.
н:А то, что в интернете люди стараются упростить язык, используют сокращения, игнорируют знаки препинания, — это может изменить русский язык?
Губерман: Нет, языку это до лампы. Особенно русскому. На мой взгляд, это просто великая стихия, которая сама все чистит, как океан. Еще в 60-е годы я читал жуткие печальные статьи людей, кто в будущем стали экологами, "зелеными", охранителями природы, о том, что океан загрязняется, в морях столько-то процентов грязи, послезавтра это море высохнет или станет сплошным. Но ведь ничего этого нет! Море — это стихия. Оно все это перемалывает и очищается. Точно так же и язык.
н: Вам молодые поэты не пытаются показать свои стихи?
Губерман:Не только пытаются. Они, к сожалению, еще на мой почтовый ящик их шлют, шлют… Постоянно.
н: Читаете?
Губерман: Да, первые пять-шесть стишков.
н:Что-то талантливое попадается?
Губерман: Еще ни разу. Но очень хочется, чтобы попалось.
н: А какие стихи шлют?
Губерман: Четверостишия, я же расплодил этот жанр… "гарики", "юрики". В Питере одна баба три тома вот таких стишков издала. Теперь же можно за свой счет издаваться.
Бобруйские модники
В евреях оттуда, в евреях отсюда —
весьма велики расхождения:
еврей вырастает по форме сосуда,
в который попал от рождения.
(Путеводитель по стране сионских мудрецов)
н:Вы уже очень давно живете в Израиле. Иврит выучили?
Губерман: Нет. Люди моего возраста — а я уехал, когда мне уже было за пятьдесят, — иностранный в стране пребывания обычно выучивают плохо. А вот дети мгновенно переходят на иврит. Мои внучки почти не знают русского, они говорят: "Бабушка, дай", "Дедушка, принеси" — вот это их уровень русского языка. Хотя бабушка, как филолог, конечно, старалась научить их.
н: А как же общение?
Губерман: Мне хватает общения на русском. Приехало безумное количество интеллигентов, которые говорят на прекрасном русском языке. Хотя есть и люди, приехавшие из таких уголков… Знаете, когда поживешь там, в Израиле, то меняется образ еврея. Потому что еврей в Москве — это почти всегда интеллигент. Или с интеллигентинкой, правда? Очки, портфельчик. А тут есть такие дикари, такие варвары, что просто совершенно невозможно. У нас же еще марокканские евреи и йеменские.
н: Абсолютно разный этнос на самом деле.
Губерман: Очень разный. И у нас из-за этого дикие культурные стычки, всякое непонимание и так далее.
н: Недопонимание даже между теми, кто приехал из бывшего Союза?
Губерман: Да. Вы знаете, ленинградские, московские и киевские евреи совершенно не то, что бухарские, которые все эти три разновидности презирают. Они считают, что мы не настоящие евреи. Знаете, у меня в Америке была забавная ситуация. По-моему, в Денвере. Я гуляю по городу с импресарио и спрашиваю: а с кем мне сегодня придется иметь дело в качестве зрителей? Он говорит: я не знаю, кто придет. Но если вы встретите человека, который одет кое-как, приветлив, доброжелателен, вежлив, то это ленинградец или москвич. Если он одет потрясающе и надменен, то это — Бобруйск, Семипалатинск. Так что жуткая разница, и это ужасно интересно.
н: Израиль — страна религиозная. Не было у вас каких-то неудобств, связанных с этим?
Губерман: Огромное количество неудобств! Чисто, скажем, физических. Очень много всего в субботу закрыто. Раньше можно было к арабам съездить спокойно, а сейчас — просто опасно. И потом, знаете, раз в полгода появляется статья какого-нибудь видного раввина о том, что все мы, приехавшие из России, на самом деле не евреи, а воры и проститутки, купившие себе документы. Никто не обращает на это внимания. Ну, сказал чушь — ну и что? Потом, смотрите, здесь мы были евреи, а там — русские. Это очень важно, это очень интересно.
н: Вам это мешает?
Губерман: Мне плевать, но я не живу общественной жизнью, я живу дома, я могу это только наблюдать. Думаю, что не мешает никому. Посмеиваются все.
н:В Израиле ваши книги раскупаются?
Губерман: Не очень. В России у меня книги выходят, по сегодняшним меркам, огромными тиражами. А в Израиле книги покупают на вечерах, где я выступаю.
н: На иврит ничего не переводили?
Губерман: Как-то один мужик-энтузиаст перевел штук 150 стишков, издал сборник.
н: Удачно перевел?
Губерман: Меня уже на семь или восемь языков переводили. Бесполезно. Нашу жизнь не переведешь. Дело даже не в стихотворном размере, а в каких-то парадоксах. Хотя… и в размере тоже. Стиль же должен остаться! Омар Хайям ждал своего переводчика шесть веков, подожду и я.
Елена Лория, 12 ноября 2010 г.