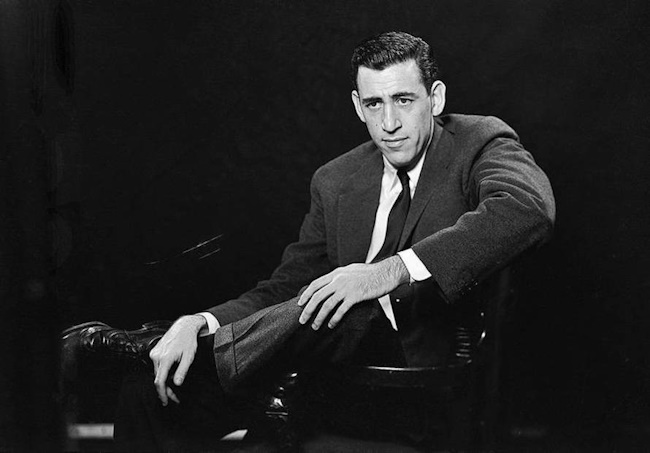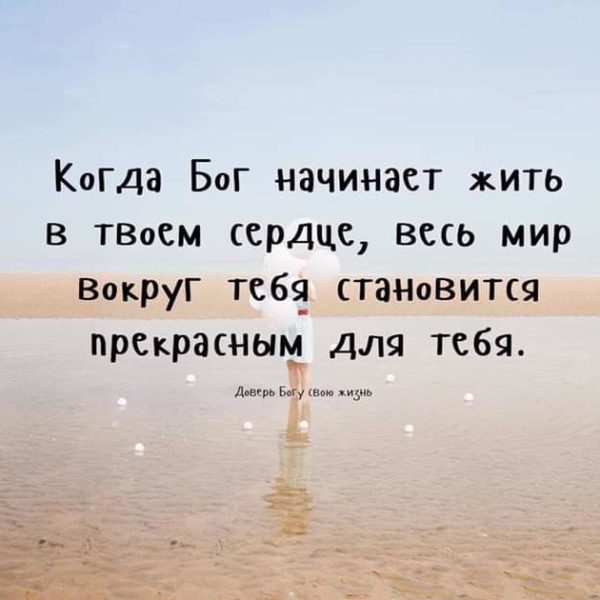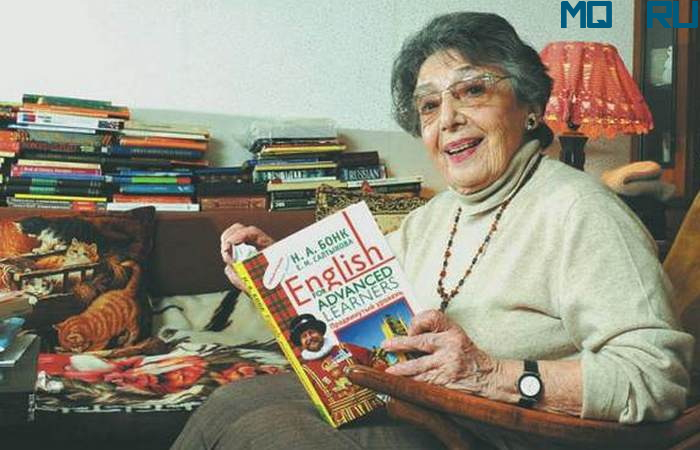Лазарь Модель: Генерал-декабрист Сергей Григорьевич Волконский (часть 1-я)
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (Евангелие от Иоа́нна, глава 1). Но было ли это слово человечье, сказанное на каком-то языке? Понимаем ли мы это? Думаем ли об этом? И почему, когда человек спрашивает: «Что есть ИСТИНА”, — мудрецы отвечают, что сказав слово, уже нарушена ИСТИНА?
Обо всем этом невольно задумываешься, говоря, точнее, продолжая разговор, начатый ранее, о генерале-декабристе Сергее Григорьевиче Волконском. При этом вновь и вновь убеждаешься в чисто житейской аксиоме: «О значении личности в истории можно судить по тем помоям и той грязи, которые выливаются сегодня на голову этой личности. Чем больше ушатов, тем выше личность.»
О князе Волконском в интернете «бла-бла» хоть отбавляй. И это в то время, как в мыслях о декабристах есть вещи не только исторического, а философского, даже мировоззренческого. Плана. Ведь, выступали они против … А в древности Монарх считался «ставленником Бога» на Земле. Но уже в средних веках, смены монархов, интриги придворные, цареубийства перестали иметь Божественный смысл, приобретя земное происхождение, вылившись в борьбу за власть.
Волконский же и другие декабристы хотели изменить крепостничество, которое мешало развитию страны. И заслуживают ли люди, посвятившие себя Отечеству (без высоких, пафосных слов), люди, пошедшие ради народа на риск смертной казни, таких воспоминаний из наших дней, когда о них говорят в осуждающем тоне, муссируя «клубничку»?
Те, кто пишут о Волконском не лицеприятно, любят, если не сказать, «обожают» писать о том, что в молодости он был гуляка-гусар. Только разве это «минус»? Разве гусары в те времена жили по-другому? Однако, много ли в истории человечества было людей, кто, имея все жизненные блага, во имя высокой цели отказывался от всего, идя на лишения, делая это осмысленно, а не по стечению обстоятельств?
Не менее странно, когда Сергея Григорьевича Волконского укоряют и в том, что он любил проводить время с простым людом, простыми мужиками. Мог вместе с ними есть лепешки, говорил «по дущам», предпочитая общение с ними определенному кругу — знати. Правда, тут трудно возразить так пишущим о генерале. Если они считают себя «небожителями», относят себя к высшему свету, то их право судить так тех, кого считают ниже уровнем, пусть даже княжеского сословия.
В противовес всему этому, озвученному выше, приведем реальные факты о декабристе, предоставив слово исследователям (историкам) его жизни.
Итак…
Никита Кирсанов. «Декабрист Сергей Волконский»
[…
Для тайного общества настали тревожные дни — стало известно о доносах на его членов. Волконский встретился с женой только осенью, чтобы отвезти её в Умань, где стояла его дивизия, а сам затем уехал в Тульчин, где находился штаб второй армии. Здесь Волконский узнал о доносе Майбороды и о том, что Пестель арестован. Но всё же ему удалось повидаться с руководителем Южного общества, предупредить о доносе. На это Пестель ответил: «Смотри, ни в чём не сознавайся! Я же, хоть и жилы мне будут тянуть пыткой — ни в чём не сознаюсь! Одно только необходимо сделать — это уничтожить «Русскую правду», одна она может нас погубить».
Волконский возвратился в Умань. Мария Николаевна описывала это возвращение в следующих словах: «Он вернулся среди ночи; он меня будит, зовёт: «Вставай скорей», я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чём дело? «Пестель арестован» — «За что?» — Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила». Именно этой ночью Волконская впервые соприкоснулась с тайным обществом.
Сергей Григорьевич понимал, что рано или поздно, но он тоже будет арестован. Волконский отвёз жену в имение её отца с. Болтышка Чигиринского уезда и возвратился в Умань. Ещё раз он посетил Болтышку, когда пришло известие, что 7 января 1826 г. родился сын Николай. Волконский был арестован на своей квартире в Умани.
Теперь его увезли в столицу в сопровождении фельдъегеря. По дороге они обогнали несколько таких же саней, в которых везли его товарищей. Навстречу попадались флигель-адъютанты, ехавшие по «Высочайшему повелению» для расследования восстания Черниговского полка. Вся страна была возбуждена. Шло расследование, которым руководил лично император. Следовали бесконечные допросы — устные, письменные, перекрёстные. Делались очные ставки. На одном из допросов генерал-адъютант Чернышёв сказал: «Стыдитесь, генерал-майор князь Волконский, прапорщики больше вас показывают!»
Положение Волконского было тяжёлым — полная неизвестность о жене и ребёнке, разобщённость с матерью, братьями, сестрой, неизвестность в отношении будущего.
Мать С.Г. Волконского — Александра Николаевна — была обер-гофмейстерикой двора. Она не сразу посетила своего сына в крепости, утверждая, что это свидание убило бы её. Ещё когда следствие не закончилось, она уехала из Петербурга в Москву с императрицей, где начинались приготовления к коронации. В Петербурге она владела домом на Мойке, где сейчас находится музей-квартира А.С. Пушкина.
Нелёгким было положение и Марии Николаевны. После рождения сына она заболела и находилась в тяжёлом состоянии, когда же приходила в себя и спрашивала о муже, ей отвечали, что он находится в Молдавии по делам службы. Наконец, она узнала правду и решила ехать в столицу, чтобы повидаться с мужем. Оставив маленького сына у своей тётки графини Браницкой в Белой Церкви, она в апреле отправилась в дорогу. В Петербурге она остановилась у своей свекрови в доме на Мойке.
Мария Николаевна добилась свидания с мужем, которое произвело на неё тягостное впечатление. В эту тяжёлую минуту Волконская осталась одна. Её братья старались очернить Волконского. Особенно старался брат Александр. В семье мужа она тоже встретила только колкости и холодность.
Наконец приговор Верховного уголовного суда так определил состав преступления Волконского: «участвовал согласием в умысле на цареубийство и истребление всей императорской фамилии, имел умысел на заточении императорской фамилии, участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении его с Северным; действовал в умысле на отторжение областей от империи и употреблял поддельную печать полевого аудитора». Осуждён был по I разряду. Срок каторги был определён сначала в 20 лет, а затем сокращён до 15-ти.
Находясь в крепости, Волконский в мае 1826 г. составил духовное завещание, в котором дал распоряжение относительно своего имущества. Душеприказчиками Волконский назначил своего тестя Н.Н. Раевского и брата Николая Репнина. Вместе с Марией Николаевной они назначались также опекунами Николеньки. Свои имения Волконский разделял на благоприобретённые и родовые. К первым относились 10 тысяч десятин земли в Таврической губернии, хутор возле Одессы и дом в этом же городе; «родовое имение состоит: а) Нижегородской губернии Балахнинского уезда Кирюшинское имение, первоначально поступившее в числе 1498 душ, в котором в силу домового акта, в ноябре 1824 г. учинённого, полагаю причитается до 72 душ, а по сему всего в Кирюшинском имении 1560 душ; b) Ярославской губернии Угличского уезда Заозерское имение в числе 643 душ; с) переведённые из Томальского имения в Новорепьёвку 44 душ…»
По завещанию жена получала Новорепьёвку, хутор, дом в Одессе, седьмую часть из Нижегородского имения. Родовые имения, в том числе Заозерье, Волконский завещал сыну.
После составления завещания Волконский написал ещё записку, в которой дал пояснения относительно некоторых статей завещания. В этой записке он писал: «Заозерское имение весьма невыгодно, ужасно малоземельно и в общем владении с другими двумя владельцами. Продажа оного и покупка другого есть оборот несомнительно выгодный для пользы сына моего». Заозерского имения Волконский коснулся ещё раз в специальной «Записке по делам, матушке поручаемых». Он писал: «В Нижегородской вотчине оброк с души — 30 руб. Годового дохода 45 тыс. В Заозерье — 25 руб., посему 16075. Дробных по сим же имениям доходам может ещё будет до 2000…» С Заозерского имения в 1825 г. Волконский получил 6788 руб. В этой же записке Волконский указывал на возможность продажи имения: «Ежели приступить необходимо будет к продаже Заозерской вотчины, посему, полагаете, можно продать, считая цены по ревизской душе».
После приговора Волконский, Трубецкой, Оболенский, Давыдов, Артамон Муравьёв, Якубович, братья Борисовы закованными были отправлены в Иркутск, а оттуда — в Благодатский рудник. В октябре 1826 г. маркшейдер Черниговцев доносил начальнику Нерчинских заводов — «все означенные восемь человек размещены по принадлежности на Благодатском руднике, что все они ремесла никакого за собой не имеют, кроме российского языка, и прочих наук, входящих в курс благородного воспитания». От губернатора Цейдлера последовало распоряжение об использовании государственных преступников для работы в шахте. Декабристы работали на руднике до середины сентября 1827 года.
Именно сюда, в Благодатский рудник, приехала жена С.Г. Волконского. Ей пришлось приложить много усилий, чтобы опять увидеть своего мужа. Хоть царь в письме к Марии Николаевне после предупреждения об опасностях, которые ожидают княгиню в Сибири, и написал, что «предоставляю вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению», но избрать было нелегко. Братья и отец были против. Когда Н.Н. Раевский услышал из уст дочери о намерении ехать в Сибирь, он поднял кулаки над её головой и закричал: «Я тебя прокляну, если ты через год не вернёшься».
Но Волконская всё же поехала. На некоторое время она остановилась в Москве у Зинаиды Волконской, бывшей замужем за братом декабриста, Никитой Григорьевичем Волконским и которую Пушкин называл «царицей муз и красоты». Невестка устроила для Марии Николаевны как бы прощальный музыкальный вечер. На нём присутствовал и А.С. Пушкин.
После нескольких дней пребывания в Москве Волконская тронулась в путь по заснеженной России. В Иркутске губернатор всячески отговаривал Марию Николаевну от её намерений, но видя её решительность, предложил подписать условия, что теперь она будет считаться женой ссыльного каторжного, что «дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне», и ещё ряд пунктов, ограничивающих её свободу.
Лазарь Модель.