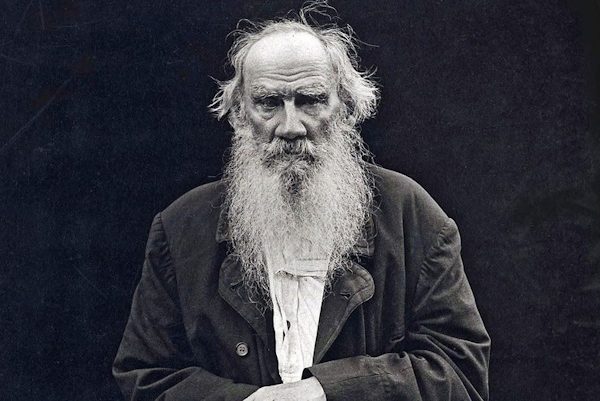Фазиль Искандер: Начало
Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому
приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в
наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных
привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к
собственной здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, что и мы
могли бы позволить себе такого рода отклонения, но не хотим, нам это ни к
чему. А может, все-таки хотим?
Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что
каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему
окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает.
Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула,
сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты,
наоборот, закрепишься в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты
превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула.
Правда, в отдельных случаях человеку удается навязать окружающим свой
желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически
пьющим.
Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил. Про одного моего
знакомого так и говорят: мол, талантливый инженер человеческих душ, губит
вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а
техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь,
потому что неблагородно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь
ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то, по крайней
мере, не мешай ему.
Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему
окружающими людьми. Вот пример.
Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном
приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха.
Как это ни странно, в самом деле превратили.
Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами передовым для того времени
методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на
пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному
саженцу в ямку, таким образом давая возможность новому, прогрессивному
методу и старому проявить себя в свободном соревновании.
Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная эвкалиптовая роща, и
уже никак невозможно было различить, где гнездовые посадки, а где одиночные.
Тогда говорили, что одиночные саженцы в непосредственной близости от
гнездовых, завидуя им Хорошей Завистью, подтягиваются и растут не отставая.
Так или иначе, сейчас, приезжая в родной город, я иногда в жару отдыхаю
под нашими, теперь огромными, деревьями и чувствую себя Взволнованным
Патриархом. Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет
чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и
дождаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны.
Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний день, когда мы
возделывали пустырь, один из ребят обратил внимание остальных на то, как я
держу носилки, на которых мы перетаскивали землю. Военрук, присматривавший
за нами, тоже обратил внимание на то, как я держу носилки. Все обратили
внимание на то, как я держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и
повод был найден. Оказалось, что я держу носилки как Отъявленный Лентяй.
Это был первый кристалл, выпавший из раствора, и дальше уже шел
деловитый процесс кристаллизации, которому я теперь сам помогал, чтобы
окончательно докристаллизоваться в заданном направлении.
Теперь все работало на образ. Если я на контрольной по математике
сидел, никому не мешая, спокойно дожидаясь, покамест мой товарищ решит
задачу, то все приписывали этой моей лени, а не тупости. Естественно, я не
пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же я по русскому письменному
писал прямо из головы, не пользуясь учебниками и шпаргалками, это тем более
служило доказательством моей неисправимой лени.
Чтобы оставаться в образе, я перестал исполнять обязанности дежурного.
К этому привыкли настолько, что, когда кто-нибудь из учеников забывал
выполнять обязанности дежурного, учителя под одобрительный шум класса
заставляли меня стирать с доски или тащить в класс физические приборы.
Впрочем, приборов тогда не было, но кое-что тащить приходилось.
Развитие образа привело к тому, что я вынужден был перестать делать
домашние уроки. При этом, чтобы сохранить остроту положения, я должен был
достаточно хорошо учиться.
По этой причине я каждый день, как только начиналось объяснение
материала по гуманитарным предметам, ложился на парту и делал вид, что
дремлю. Если учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, но не
хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лежа на парте, я внимательно
слушал голос учителя, не отвлекаясь на обычные шалости, и старался запомнить
все, что он говорит. После объяснения нового материала, если оставалось
время, я вызывался отвечать в счет будущего урока.
Учителей это радовало, потому что льстило их педагогическому самолюбию.
Получалось, что они так хорошо и доходчиво доносят свой предмет, что
ученики, даже не пользуясь учебниками, все усваивают,
Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, звенел звонок, и все были
довольны. И никто, кроме меня, не знал, что только что зафиксированные
знания рушатся из моей головы, как рушится штанга из рук штангиста после
того, как прозвучит судейское: «Вес взят!»
Для полной точности надо сказать, что иногда, когда я, делая вид, что
дремлю, лежал на парте, я и в самом деле погружался в дремоту, хотя голос
учителя продолжал слышать. Гораздо позже я узнал, что таким, или почти
таким, методом изучают языки. Я думаю, не будет выглядеть слишком
нескромным, если я сейчас скажу, что открытие его принадлежит мне. О случаях
полного засыпания я не говорю, потому что они были редки.
Через некоторое время слухи об Отъявленном Лентяе дошли до директора
школы, и он почему-то решил, что это именно я стащил подзорную трубу,
которая полгода назад исчезла из географического кабинета. Не знаю, почему
он так решил. Возможно, сама идея хотя бы зрительного сокращения расстояния,
решил он, больше всего могла соблазнить лентяя. Другого объяснения я не
нахожу. К счастью, подзорную трубу отыскали, но ко мне продолжали
присматриваться, почему-то ожидая, что я собираюсь выкинуть какой-нибудь
фокус. Вскоре выяснилось, что никаких фокусов я не собираюсь выкидывать, что
я, напротив, очень послушный и добросовестный лентяй. Более того, будучи
лентяем, я вполне прилично учился.
Тогда ко мне решили применить метод массированного воспитания, модный в
те годы. Суть его заключалась в том, что все учителя неожиданно наваливались
на одного нерадивого ученика и, пользуясь его растерянностью, доводили его
успеваемость до образцово-показательного блеска.
Идея метода заключалась в том, что после этого другие нерадивые
ученики, завидуя ему Хорошей Завистью, будут сами подтягиваться до его
уровня, как одиночные посадки эвкалиптов.
Эффект достигался неожиданностью массированного нападения. В противном
случае ученик мог ускользнуть или испакостить сам метод.
Как правило, опыт удавался. Не успевала мала куча, образованная
массированным нападением, рассосаться, как преобразованный ученик стоял
среди лучших, нагловато улыбаясь смущенной улыбкой обесчещенного.
В этом случае учителя, завидуя друг другу, может быть, не слишком
Хорошей Завистью, ревниво по журналу следили, как он повышает успеваемость,
и уж, конечно, каждый старался, чтобы кривая успеваемости на отрезке его
предмета не нарушала победную крутизну.
То ли на меня навалились слишком дружно, то ли забыли мой собственный
приличный уровень, но, когда стали подводить итоги опыта работы надо мной,
выяснилось, что меня довели до уровня кандидата в медалисты.
— На серебряную потянешь, — однажды объявила классная
руководительница, тревожно заглядывая мне в глаза.
Это была маленькая, самолюбивая каста неприкасаемых. Даже учителя
слегка побаивались кандидатов в медалисты. Они были призваны защищать честь
школы. Замахнуться на кандидата в медалисты было все равно что подставить
под удар честь школы.
Каждый из кандидатов в свое время собственными силами добивался
выдающихся успехов по какому-нибудь из основных предметов, а уже по
остальным его дотягивали до нужного уровня. Включение меня в кандидаты было
пока еще тихим триумфом метода массированного воспитания,
На выпускных экзаменах к нам были приставлены наиболее толковые
учителя. Они подходили к нам и часто под видом разъяснения содержания билета
тихо и сжато рассказывали содержание ответа. Это было как раз то, что нужно.
Спринтерская усвояемость, отшлифованная по время исполнения роли
Отъявленного Лентяя, помогала мне точно донести до стола комиссии
благотворительный шепоток подстраховывающего преподавателя. Мне оставалось
включить звук на полную мощность, что я и делал с неподдельным вдохновением.
Кончилось все это тем, что я вместо запланированной на меня серебряной
медали получил золотую, потому что один из кандидатов на золотую по дороге
сорвался и отстал.
Он был и в самом деле очень сильным учеником, но ему никак не давались
сочинения и у него была слишком настырная мать. Она была членом
родительского комитета и всем надоела своими вздорными предложениями,
которые никто не принимал, но все вынуждены были обсуждать. Она даже внесла
предложение кормить кандидатов усиленными завтраками, но члены родительского
комитета своим демократическим большинством отвергли ее вредное предложение.
Так вот мальчик этот, готовясь к первому экзамену, составил, чтобы
избежать всякой случайности, двадцать сочинений на наиболее возможные темы
по русской литературе. Каждое сочинение он сшил в микроскопический томик с
эпиграфом и библиографическим знаком на обложке, чтобы не запутаться.
Двадцать лилипутских томиков можно было сжать в ладони одной руки.
Он успешно написал свое сочинение, но, видно, переутомился. На
следующих экзаменах он хотя и правильно отвечал, но говорил слишком тихим
голосом, а главное, задумывался и, что уже совсем непростительно, вдруг
возвращался сказанному, уточняя формулировки уже после того, как экзаменатор
кивнул головой в знак согласия.
Когда экзаменатор или, скажем, начальник кивает тебе головой в знак
согласия с тем, что ты ему говоришь, так уж, будь добр, валяй дальше, а не
возвращайся к сказанному, потому что ты этим самым ставишь его в какое-то не
вполне красивое положение.
Получается, что экзаменатору первый раз и не надо было кивать головой,
а надо было дождаться, пока ты уточнишь то, что сам же высказал. Так ведь не
всегда уточняешь. Некоторые могли даже подумать, что, кивнув в первый раз,
экзаменатор или начальник не подозревали, что эту же мысль можно еще точнее
передать, или даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспринципность:
мол, и там кивает и тут кивает.
Сам не замечая того, он оскорблял комиссию, как бы снисходил до нее
своими ответами.
В конце концов было решено, что он зазнался за время своего долгого
пребывания в кандидатах, и на двух последних экзаменах ему на балл снизили
оценки.
Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамаши на
выпускном вечере. Вернее, не на самом вечере, а перед вечером в раздевалке.
— Негодяй, притворявшийся лентяем! — сказала она, увидев меня в
раздевалке и одергивая зонтик.
Мне бы промолчать или, по крайней мере, потерпеть, пока она повесит
свой вонючий зонтик.
— Все же он получает серебряную, — сказал я, чувствуя, что мое
утешение должно ее раздражать, и, может, именно поэтому утешая.
— Мне серебро даром не надо, — прошипела она и, неожиданно вытянув
руку, несколько раз мазанула мне по шее мокрым зонтиком. — Я три года
проторчала в комитете!
Она это сделала с такой злостью, словно то, что она мазанула мне по шее
зонтиком, ничего не стоит, что, в сущности, шею мою надо было бы перепилить.
— А я вас просил торчать? — только и успел я сказать. Слава богу, из
ребят никто ничего не заметил. Но все равно было обидно. Особенно было
обидно, что он был мокрый. Если б сухой, не так было бы обидно.
В тот же год я поехал учиться в Москву, а самую медаль, которую я еще
не видел, через несколько месяцев принесли маме прямо на работу. Она
показала ее знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлинности золота.
— Сказал, настоящее, если он не заодно с ними, — рассказывала она мне
на следующий год, когда я приехал на каникулы.
Так, доигрывая навязанный мне образ Отъявленного Лентяя, я пришел к
золотой медали, хотя и получил мокрым зонтом по шее.
И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд
и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток,
так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я
остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор
определило следующее обстоятельство.
Года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я ему дал
«Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойля, а он мне — один из разрозненных
томов Гегеля, «Лекции по эстетике». Я уже знал, что Гегель — философ и
гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной
рекомендацией.
Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я
читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными, непонятными
словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно.
Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля, кроме рационального зерна,
немало идеалистической шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что
абзацы, которые я пропускал, скорее всего и содержали эту шелуху.
Вообще я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной
цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться
возле нее, как верблюд возле оазиса. Некоторые мысли его удивили меня
высокой точностью попадания. Так, он назвал басню рабским жанром, что было
похоже на правду, и я постарался это запомнить, чтобы в будущем по ошибке не
написать басни.
Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на
Моховой. Я поднялся по лестнице и, следуя указателям бумажных стрел, вошел в
помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди,
за некоторыми — довольно юные девушки. На каждом столике стоял плакатик с
указанием факультета. У столиков толпились выпускники, томясь и медля перед
сдачей документов. В зале стоял гул голосов и запах школьного пота.
За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой
мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился
возле этого столика, и тем безудержней я пересек это пространство, как бы
выжженное философским скептицизмом.
Я подошел к столику. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня.
— Откуда, юноша? — спросил он голосом, усталым от философских побед.
Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к намеченному диалогу.
— Из Чегема, — сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом.
Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее
обрадовать его дремучестью происхождения. По моему мнению, университет,
носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям.
— Это что такое? — спросил он, едва заметным движением руки
останавливая мою попытку положить на стол документы.
— Чегем — это высокогорное село в Абхазии, — доброжелательно
разъяснил я.
Пока все шло по намеченному диалогу. Все, кроме радости по поводу моей
дремучести. Но я решил не давать сбить себя с толку мнимой холодностью
приема. Я ведь тоже преувеличил высокогорность Чегема, не такой уж он
высокогорный, наш милый Чегемчик. Он с преувеличенной холодностью, я с
преувеличенной высокогорностью; в конце концов, думал я, он не сможет долго
скрывать радости при виде далекого гостя.
— Абхазия — это Аджария? — спросил он как-то рассеянно, потому что
теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя
перехватить мою очередную попытку положить документы на стол.
— Абхазия — это Абхазия, — сказал я с достоинством, но не заносчиво.
И снова сделал попытку вручить ему документы.
— А вы знаете, какой у нас конкурс? — снова остановил он меня
вопросом.
— У меня медаль, — расплылся я и, не удержавшись, добавил: —
Золотая.
— У нас медалистов тоже много, — сказал он и как-то засуетился,
зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола: то ли искал внушительный список
медалистов, то ли просто пытался выиграть время. — А вы знаете, что у нас
обучение только по-русски? — вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами.
— Я русскую школу окончил, — ответил я, незаметно убирая акцент. —
Хотите, я вам прочту стихотворение?
— Так вам на филологический! — обрадовался он и кивнул: — Вон тот
столик.
— Нет, — сказал я терпеливо, — мне на философский.
Человек погрустнел, и я понял, что можно положить на стол документы.
— Ладно, читайте. — И он вяло потянулся к документам.
Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков.
Мне снилось: мертвенно-бессильный,
Почти жилец земли могильной,
Я глухо близился к концу.
И бывший друг пришел к кровати
И, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу!
— И правильно сделал, — сказал он, подняв голову и посмотрев на меня.
— Почему? — спросил я, оглушенный собственным чтением и еще не
понимая, о чем он говорит.
— Не заводите себе таких друзей, — сказал он не без юмора.
Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего
коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось.
— Пойду узнаю, — сказал он и, шлепнув мои документы на стол,
поднялся, — кажется, на вашу нацию есть разнарядка.
Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я
обиделся за стихи и разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся.
В тот же день я поступил в Библиотечный институт, который по дороге в
Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона.
Если человек из университета все время давал мне знать, что я не
дотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из
приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат как слишком крупную для
этого института и потому подозрительную купюру. Он присматривался к
остальным документам, заглядывал мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти
сочувствуя моему замыслу и прося, в ответ на его сочувствие, проявить
встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал
замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на
место. Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде
можно получить разницу.
— Хорошо, вы приняты, — сказал мужчина, не то удрученный, что меня
нельзя прямо сдать в милицию, не то утешенный тем, что после моего ухода у
него будет много времени для настоящей проверки документов.
Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и
я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Сейчас Библиотечный
институт переименован в Институт культуры и пользуется у выпускников большим
успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить
вывеску.
Через три года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и
выгодней самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я
перешел в Литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По
окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней
квалификации и стал осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить
на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды.
Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные
снимки и киножурналы. Окрестности города я нашел красивыми, только полное
отсутствие гор создавало порой ощущение беззащитности. От обилия плоского
пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к
какой-нибудь горе или даже спрятаться за нее.
Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом
выяснилось, я им тоже показался наивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись
характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают нам возможность
перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более
опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.
Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше
наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что
наши по сравнению с москвичами едят гораздо больше зелени.
Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не
разгаданной,— это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало,
сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают
стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и
не выключают.
— Тише! — встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к
репродуктору. — Погоду передают.
Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить
ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное: «Тише!», я
вздрагивал, думая, что начинается война или еще что-нибудь не менее
катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной,
неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по
своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело?
Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на
полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же
сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянстве интерес к
погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до
метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей
великого города. Тут есть какая-то тайна.
Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я
несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное призвание — это
открывать и изобретать.
Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в
своем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде, я и
сам делаю вид, что интересуюсь погодой.
— Ну как, — говорю я, — что там передают насчет погоды? Ветер с
востока?
— Нет, — радостно отвечают москвичи, — ветер юго-западный до
умеренного.
— Ну, если до умеренного, — говорю, — это еще терпимо.
И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и
наблюдательности. Но, чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на
жизнь, и я пишу.
Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста, и я
уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь
серьезное, как я вижу лицо читателя с выражением добродетельного терпения,
ждущего, когда я наконец начну про смешное.
Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня все-таки
подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьезное я
начал говорить нарочно, чтобы потом было еще смешней.
Вообще я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы
сами участники описываемых событий делали что им заблагорассудится, а я бы
сидел в сторонке и только поглядывал на них.
Но чувствую, что пока не могу этого сделать: нет полного доверия. Ведь
когда мы говорим человеку, делай все, что тебе заблагорассудится, мы имеем в
виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и
окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки,
делается еще приятней.
Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской
зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать
неприятные глупости или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то есть
пребывать в унылом бездействии.
Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за
героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости:
— Веселее, ребята!
В понимании юмора тоже нет полной ясности.
Однажды на теплоходе «Адмирал Нахимов» я ехал в Одессу. Был чудесный
сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в
благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабеля.
Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно
разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи проносились подо мной,
издавая соблазнительный шорох тающей пены свежего бочкового пива. Но тут ко
мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные
струи продолжали проноситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены
свежего бочкового пива больше не удавалось.
— Простите, — сказал он с понимающей улыбкой, — вы — это вы?
— Да, — говорю, — я — это я.
— Я, — говорит он, все так же понимающе улыбаясь, — вас сразу узнал
по кольцу.
— То есть по какому кольцу? — заинтересовался я и перестал слушать
пену.
— В журнале печатались статьи с вашими портретами, — объяснил он, —
где вы сняты с этим же кольцом.
В самом деле так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня
несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со
снимками из этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, нестареющим
женихом с обручальным кольцом, выставленным вперед, подобно тому как раньше
на деревенских фотографиях выставляли вперед запястье с циферблатом часов,
на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления
незабвенного снимка.
Я уже было совсем собрался поругаться с редакцией за эту рекламу, но
тут обнаружилось, что редакция больше не собирается меня печатать, и
необходимость выяснять отношения отпала сама собой.
Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой
пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа
«Детский сад», он прямо-таки стал захлебываться от хохота, что в
значительной мере улучшило мое настроение.
Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж смешным, но, если
он читателю показался таким, было бы глупо его разуверять в этом.
Уподобляясь ему, перескажу содержание рассказа.
Во дворе детского сада росла груша. Время от времени с дерева падали
перезревшие плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик
подобрал особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть. но
воспитательница отобрала у него грушу и сказала, что она пойдет на общий
обеденный компот. После некоторых колебаний мальчик утешился тем, что его
груша пойдет на общий компот.
Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла
домой. В руке она держала сетку. В сетке лежала его груша. Мальчик побежал,
потому что ему стыдно было встретиться глазами с воспитательницей.
В сущности, это был довольно грустный рассказ.
— Так что же вас так рассмешило? — спросил я у него.
Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул рукой —
дескать, хватит меня разыгрывать.
— Все-таки я не понимаю, — настаивал я.
— Неужели? — спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно
выпуклые глаза.
— В самом деле, — говорю я.
— Так если воспитательница берет грушу домой, представляете, что берет
директор детского сада?! — почти выкрикнул он и снова расхохотался.
— При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова не говорится, —
возразил я.
— Потому и смешно, что не говорится, а подразумевается, — сказал он и
как-то странно посмотрел на меня своими выпуклыми, недоумевающими глазами.
Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно прямо сказать о
чем-то, а в каких случаях прямо говорить не смешно. Здесь именно такой
случай, сказал он, потому что читатель по разнице в должности догадывается,
сколько берет директор, потому что при этом отталкивается от груши
воспитательницы.
— Выходит, директор берет арбуз, если воспитательница берет грушу? —
спросил я.
— Да нет, — сказал он и махнул рукой. Разговор перешел на посторонние
предметы, но я все время чувствовал, что заронил в его душу какие-то
сомнения, боюсь, что творческие планы. Во время нашей беседы выяснилось, что
он работает техником на мясокомбинате. Я спросил у него, сколько он
получает.
— Хватает, — сказал он и обобщенно добавил: — С мяса всегда что-то
имеешь.
Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фатальное свойство белковых
соединений.
— Что тут смешного? — сказал он. — Каждый жить хочет.
Это тоже прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.
Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, чтобы установить,
что имеет директор комбината, но не решился.
Он стал держаться несколько суше. Я теперь его раздражал тем, что
открыл ему глаза на более глубокое понимание смешного, и в то же время
сделал это нарочно слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состязаться.
В конце пути он сурово взял у меня телефон и записал в книжечку.
— Может, позвоню, — сказал он с намеком на вызов.
Каждый день, за исключением тех дней, когда меня не бывает дома, я
закрываюсь у себя в комнате, закладываю бумагу в свою маленькую прожорливую
«Колибри» и пишу.
Обычно машинка, несколько раз вяло потявкав, надолго замолкает.
Домашние делают вид, что стараются создать условия для моей работы, я делаю
вид, что работаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобретаю или,
склонившись над машинкой, прислушиваюсь к телефону в другой комнате. Так
деревенские свиньи в наших краях, склонив головы, стоят под плодовыми
деревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, чтобы вовремя к нему
подбежать.
Дело в том, что дочка моя тоже прислушивается к телефону, и если
успевает раньше меня подбежать к нему, то ударом кулачка по трубке ловко
отключает его. Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лишено
смысла.
О многих своих открытиях, ввиду их закрытого характера, пока существует
враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд
ценных наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, чтобы овладеть
хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную
бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно.
След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором.
Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным
достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что
оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное
правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку,
чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов.
Фазиль Искандер.