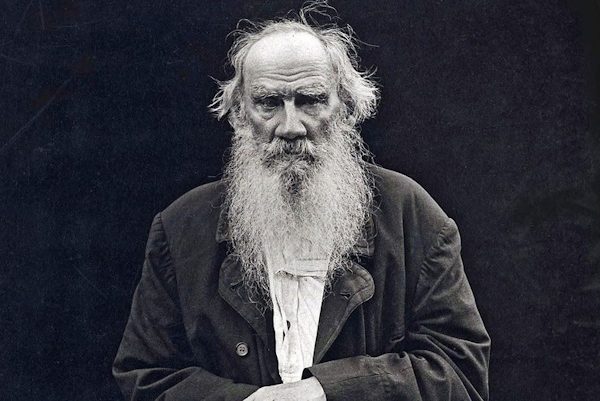Лазарь Модель: Ко дню рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко: Лицо жизни (часть 1-я)
Сначала было слово
– Самая существенная разница между свадьбой и похоронами та, что на похоронах плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на другой день.
***
– Увы! Желуди одинаковые, но когда вырастут из них молодые дубки – из одного дубка сделают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого…
Ложь
Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех – масса терпения, хитрости – и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.
***
Гость опытным взглядом обвел стол.
– Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку побольше.
Хозяин вздохнул и прошептал:
– Как хотите. На то вы и гость.
И налил рюмку, стараясь недолить на полпальца.
– Полненькую, полненькую! – весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил: – Люблю полненьких!
– Ну-с… ваше здоровье! А я простой выпью. Прошу закусить: вот грибки, селедка, кильки… Кильки, должен я вам сказать, поражающие!
– Те-те-те! – восторженно закричал гость. – Что вижу я! Зернистая икра, и, кажется, очень недурная! А вы, злодей, молчите!
– Да-с, икра… – побелевшими губами прошептал Кулаков. – Конечно, можно и икры… Пожалуйте вот ложечку.
– Чего-с? Чайную? Хе-хе! Подымай выше. Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо! Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?
***
Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, то это только половина дела. Другая половина – найти номер дома. Это трудно. Потому что 7-ой номер помещается между 29-ым и 14-ым, а 16-ый скромно заткнулся между 127-ым и 19-ым.
Вероятно, это происходит оттого, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему более по душе.
Искомый номер 22 был сравнительно приличен: между 24-ым и 13-ым.
Стриженая девка не успеет косы заплести
Вошла хозяйка:
– Аннушка, самовар поставь.
Во мне заговорил джентльмен.
– Позвольте, я поставлю, – предложил я, кашлянув в кулак. – Я мигом. Стриженая девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать уголь и куда налить воды.
Это были маленькие зарисовки от именинника.
Дорогой жизни
Наша жизнь определяется всего двумя датами (радостной и скорбной): родился – умер на могильной плите. А между ними целое Пространство бренного существования. И если считается, что дети на Небе выбирают себе родителей, то означает ли это, что таким образом они выбирают себе и Судьбу?
Или Судьба нам все-таки дается СВЫШЕ при рождении с учетом «Кармы»? Ведь, если бы мы ее выбирали сами, то как быть с нашими «прошлыми» грехами, или, наоборот, заслугами перед людьми и Богом? Да, и человек слаб: многие захотели бы стать вельможными князьями (наше время, не исключение), а не копаться в «грязи».
Как бы то ни было, если отвлечься от философии, спорной и далеко не всем интересной, а вернуться к нашему очерку, Аркадий Тимофеевич Аверченко родился в Севастополе в 1881 году в купеческой семье.
У его родителей – Тимофея Петровича и Сусанны Павловны – было 10 детей, трое сыновей умерло. Аркадий остался единственным братом шестерых сестер. В России до революции большие семьи встречались часто: и в деревнях, в крестьянских семьях, и, уж, тем более, в зажиточных купеческих семьях. К слову сказать, даже на производстве, скажем, у фабриканта Морозова в Москве (Трехгорная мануфактура) рабочий получал 40 рублей в месяц (булка стоила полкопейки), что позволяло содержать семью с пятью детьми. И если бы все фабриканты были такие, как Морозов, революции могло бы и не быть.
Вот что о своем житие-бытие рассказывает сам писатель Аверченко.
От первого лица. Автобиография
«…Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.
Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:
– Держу пари на золотой, что это мальчишка!
«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись, – ты играешь наверняка».
С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.
Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?
Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.
– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.
– Тебе надо учиться.
– Очень нужно! Не хочу учиться.
– Почему?
Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:
– Я болен.
– Что у тебя болит?
Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:
– Глаза.
– Гм… Пойдем к доктору.
Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.
– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?
– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме:
“…хорошего в ученьи”.
Так я и не занимался науками.
***
Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.
Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами, каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.
Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.
Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мои рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.
***
Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:
– Надо тебе служить.
– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.
– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!
Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример, как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.
– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет. А ты?
Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался “держаться свободнее”, шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!
– Сережа служит, а ты еще не служишь… – упрекнул меня отец.
– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?
– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. – Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!
Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.
***
Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.
Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.
“Это, наверное, и есть главный агент”, – подумал я.
– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку – Как делишки?
– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!
Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.
Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:
– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!
Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.
– Здравствуйте, – сказал я – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру).
– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!
Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:
– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!
Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.
“Дурак я, – думал я про себя – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!”
В это время в передней послышалась возня.
– Посмотрите, кто там? – попросил меня главный агент.
Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:
– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.
Плюгавый старичишка вошел и закричал:
– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!
Предыдущий важный начальник подскочил в кресле, как мяч, а молодой господин, названный им до того “лодырем”, предупредительно сообщил мне на ухо:
– Главный агент притащился.
Так я начал свою службу.
***
Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей – ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука…
Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца…
Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.
И все обитатели этого места пили, как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.
Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе – целым морем водки.
Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.
Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.
– Что это такое? – изумился я…
– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.
– Ну?
– Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!
Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала.
И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.
Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.
По миновании же этого странного карантина – был он жестоко избит.
Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.
Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.
В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.
***
Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом…
По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах – месте, которое восхищало меня сначала до глубины души. Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.
Вероятно, потому что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.
Литературная моя деятельность была начата в 1904 году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ… Во-вторых, я отнес его в “Южный край”. И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!
Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась…
Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской воины.
Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина…
Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературе и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.
Я стал редактировать журнал “Штык”, имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу. Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.
Я отказался по многим причинам, главные из которых были – отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.
Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.
Я отказался.
Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!
Тогда он, обидевшись, сказал.
– Один из нас должен уехать из Харькова!
– Ваше превосходительство! – возразил я – Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?
Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.
И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 5 номеров журнала “Меч”, который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.
В Петроград я приехал как раз на Новый год.
Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.
И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, могу дать честное слово, увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город. Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.
И вот – начал я ее.
Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом “Сатирикон”, и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб, на полгода 4 руб).
Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего “Сатирикона” (на год 8 руб, на полгода 4 руб).
В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.
Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.
Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение…»
В автобиографии писатель поскромничал. Когда он со временем возглавил «Сатирикон», превратившись из автора в главного редактора, издание пошло в гору.
В то время там публиковались Надежда Лохвицкая (Тэффи), Саша Чёрный, Осип Дымов, Леонид Андреев, а иллюстрировали его виднейшие художники Серебряного века. Журнал читал сам император Николай II, собирая его подшивки.
В 1910 году издаются 3 книги Аркадия Аверченко. Его сравнивают с Марком Твеном и О’Генри. Настоящим хитом становится публикация «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»». В него входят юмористические произведения Дымова, Тэффи, Иосифа Оршера. Аверченко берется описать Новое время. Одним из самых запоминающихся становится его рассказ «Открытие Америки».
Пик славы писателя пришелся именно на 1910 год, когда и были изданы три его книги. Статьи его были настолько популярны, что некоторые превращались в театральные постановки.
В 1912 году выходят еще 2 тома рассказов: «Круги по воде» и «Рассказы для выздоравливающих». Сатирик много путешествует, ездит по стране, пишет новые произведения, рецензирует театральные постановки.
Однако благополучие его в один миг обрывается после Октябрьской революции. Журнал Аверченко большевики приказывают закрыть, посчитав это издание неблагонадежным и буржуазным. Сам Аверченко оказывается в изгнании. Из Петербурга он уезжает на юг. Два года живет в Севастополе, а в 1920 году отправляется в эмиграцию.
За границей Аверченко работает над проектом театра, который был основан еще в Севастополе, продолжая писать рассказы. Тем не менее, обосноваться на Западе ему непросто, так как он не знает ни одного иностранного языка. Хорошо еще, что в то время в Европе оказывается огромное количество эмигрантов из России.
В этот период творчество Аверченко резко меняется. Он начинает уделять больше внимания острым социально-политическим темам. Тональность его прозы меняется. При этом чувствуется тоска по родине. В 1921 году в Париже выходит сборник его памфлетов «Дюжина ножей в спину революции».
В рассказах, которые Аверченко пишет в то время, начиная с 20-х годов, он пытается осмыслить события, произошедшие в России, осознать их разрушительные последствия. Много внимания при этом уделяет судьбам эмигрантов, которые, как и он, пытаются найти новый смысл жизни, оказавшись вдали от дома.
В конце своей жизни Аверченко останавливается в Чехии. Здесь выходят его книги «Записки Простодушного», «Рассказы циника», «Шутка мецената». В этой стране писатель и заканчивает свою короткую, но полную событиями, жизнь.
Думая о его судьбе, поражаешься его самобытной натуре. Ведь даже в своей автобиографии, написанной с большим юмором, чувствуется усмешка, ирония сатирика над собственной судьбой. А много ли людей способно посмеяться над собой – любимым? Жаль, что в новой России этот писатель оказался ненужным. Понятно, что большевикам, боровшимся за власть, сатира была ни к селу, ни к городу. Ну а когда тебя ненавидят, ты волей-неволей будешь отвечать тем же. Вот одна из книг писателя о том времени.
А вот другое небольшое, но весьма красноречивое и яркое произведение писателя «”Приятельское письмо” Ленину от Аркадия Аверченко».
Ленину от Аркадия Аверченко.
Здравствуй, голубчик! Ну, как поживаешь? Все ли у тебя в полном здоровьи?
Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел, вероятно, забыл меня?..
А я тебя помню.
Я тот самый твой коллега по журналистике Аверченко, который, если ты помнишь, топтался внизу, около дома Кшесинской в то время, как ты стоял на балконе и кричал во все горло:
– Надо додушить буржуазию! Грабь награбленное!
Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, жаловался Луначарский, что я, дескать, в своем «Сатириконе» издеваюсь и смеюсь над вами.
Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую.
Прости, голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой доставки на Гороховую – уехал из Петербурга, даже не простившись с тобой. захлопотался.
Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. Зерново, но я совсем забыл тебе сказать перед отъездом, что поеду через Унечу.
Не ожидал ты этого?
Кстати, спасибо тебе. на Унече твои коммунисты приняли меня замечательно. Правда, комендант Унечи – знаменитая курсистка товарищ Хайкина сначала хотела меня расстрелять.
– За что? – спросил я.
– За то, что вы в своих фельетонах так ругали большевиков.
Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:
– А вы читали мои самые последние фельетоны?
– Нет, не читала.
– Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!
А что «нечего и говорить», я, признаться, и сам не знаю, потому что в последних фельетонах – ты прости, голубчик, за резкость – просто писал, что большевики – жулики, убийцы и маровихеры…
Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я ее не разубеждал.
Ну вот, братец ты мой – так я и жил.
Выезжая из Унечи, я потребовал себе конвой, потому что надо было переезжать нейтральную зону, но это была самая странная нейтральная зона, которую мне только приходилось видеть в жизни, потому что по одну сторону нейтральной зоны грабили только большевики, по другую – только немцы, а в нейтральной зоне грабили и большевики, и немцы, и украинцы, и все вообще, кому не лень.
Бог ее знает, почему она называлась нейтральной, эта зона.
Большое тебе спасибо, голубчик Володя, за конвой – если эту твою Хайкину еще не убили, награди ее орденом Красного Знамени за мой счет…
Много, много, дружище Вольдемар, за эти два года воды утекло… Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как соленого зайца: из Киева в Харьков, из Харькова – в Ростов, потом Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять… Севастополь.
Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл по своим личным делам.
Впрочем, что же это я о себе, да о себе… Поговорим и о тебе…
Ты за это время сделался большим человеком… Эка, куда хватил: неограниченный властитель всея России… Даже отсюда вижу твои плутоватые глазенки, даже отсюда слышу твое возражение:
– Не я властитель, а ЦИК.
Ну, это, Володя, даже не по-приятельски. Брось ломаться – я ведь знаю, что тебе стоит только цикнуть и весь твой ЦИК полезет под стол и сделает все, что ты хочешь.
А ловко ты, шельмец, устроился – уверяю тебя, что даже при царе государственная дума была в тысячу раз самостоятельнее и независимее. Согнул ты «рабоче-крестьянскую», можно сказать, в бараний рог.
Как настроение?
Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя.
На кой черт тебе вся эта музыка? В то время, когда ты кричал до хрипоты с балкона – тебе, отчасти, и кушать хотелось, отчасти и мир по молодости лет собирался перестроить.
А теперь? Наелся ты досыта, а мира все равно не перестроил.
Доходят до меня слухи, что живется у вас там в России, перестроенной по твоему плану – препротивно.
Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты, Володя, слышал я, так запутался, что у тебя и частная собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и концессии.
Стоит огород городить, действительно!
Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь.
Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и этакие хорошенькие бабеночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике.
А какой ты к черту Людовик, прости за откровенность!
Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев – и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом и ему кричали «ура», а тебе что кричат?
“ Жулики вы, – кричат тебе и Троцкому, – Чтобы вы подохли, коммунисты”.
Ну, чего хорошего?
Я еще понимаю, если бы рожден был королем – ну, тогда ничего не поделаешь: профессия обязывает. Тогда сиди на башне – и сочиняй законы для подданых.
А ведь ты – я знаю тебя по Швейцарии – ты без кафе, без «бока», без табачного дыма, плавающего под потолком – жить не мог.
Небось, хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать о политике, затянуться хорошим киастером -– да где уж там!
И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо на кой дьявол, позакрывал декретом № 215523.
Неуютно ты, брат, живешь, по собачьему. Русский ты столбовой дворянин, а с башкирами все якшаешься, с китайцами, и друга себе нашел – Троцкого – совсем он тебе не пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он тебя подбивает на всякие глупости, а ты слушаешь.
Если хочешь иметь мой дружеский совет – выгони Троцкого, распусти этот идиотский ЦИК и издай свой последний декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что это для отсталой России «не по носу табак», так что ты приказываешь народу вернуться к старому, буржуазно-капиталистическому строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт.
Просто и мило!
Ей богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь, что получилось: дрянь, грязь и безобразие.
Не нужно ли деньжат? Лир пять, десять могу сколотить, вышлю.
Хочешь – приезжай ко мне, у меня отдохнешь, подлечишься, а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем – поумней твоего марксизма.
Ну, прощай, брат, кланяйся там!
Поцелуй Троцкого, если не противно.
Где летом – на даче?
Неужели в Кремле?
С коммунистическим приветом
Аркадий Аверченко.
P. S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши: Париж, Елисейский дворец, Мильерану для Аверченко…»
Интересное произведение. Ничего не скажешь. Впрочем, в жизни писателя, в принципе, можно особенно выделить его взаимоотношения с людьми, в том числе, самыми высокопоставленными в государстве, обладавшими неограниченной властью. Но это уже отдельный разговор…
Лазарь Модель.
Продолжение следует.