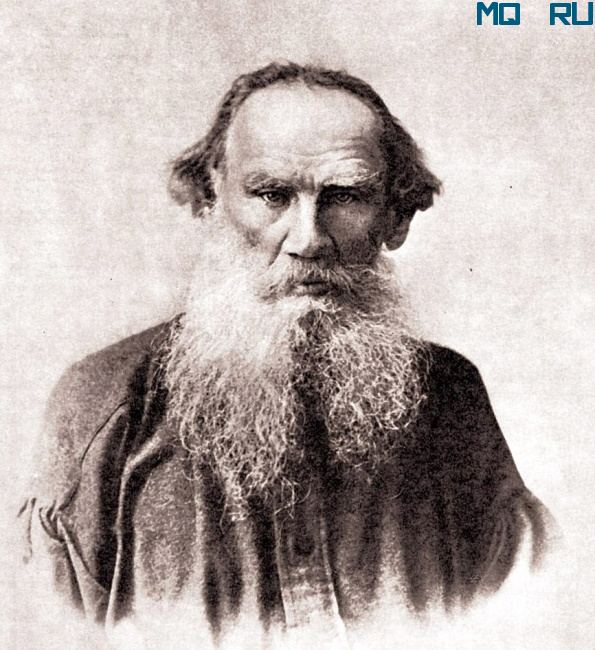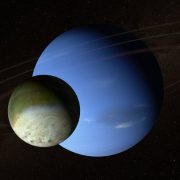Лазарь Модель: Маргарита Алигер. К юбилею поэтессы.
Говорить о поэте (поэтессе) или писателе часто начинают с его или ее жизни. Это понятно и, может быть, правильно, однако только тогда, когда имя «на слуху». Маргарита Алигер не только родилась, жила и работала в Советском Союзе, о котором уже все давно забыли, как будто и не было страны, но и в те времена поэтессу не изучали в школе на уроках литературы. Хотя объективности ради надо сказать, что на уроках литературы в Стране Советов, кроме Маяковского – поэта революции, никого из советских поэтов и не изучали, в основном, давали поэтов серебряного века. Кстати, любопытный факт.
Поэтому разговор о поэтессе Маргарите Алигер начнем с ее стихов.
В мире, где живёт глухой художник,
дождик не шумит, не лает пёс.
Полон мир внезапностей тревожных,
неожиданных немых угроз.
А вокруг слепого пианиста
в яркий полдень не цветут цветы:
мир звучит встревоженно и чисто
из незримой плотной пустоты.
Лишь во сне глухому вдруг приснится
шум дождя и звонкий лай собак.
А слепому – летняя криница,
полдень, одуванчик или мак.
…Всё мне снится, снится сила духа,
Странный и раскованный талант.
Кто же я, художник ли без слуха
Или же незрячий музыкант?
1967
Очень, глубокое, интересное и хорошо написанное стихотворение. Заметим, что в 1967 году поэтессе было 52 года, она 1915 года рождения. Это произведение больше отражает душу автора, нежели время, в котором он жила. В стихах Маргариты Алигер, которая прожила трагичную и любвеобильную жизнь, многое отражалось.
Двое
Опять они поссорились в трамвае,
не сдерживаясь, не стыдясь чужих…
Но, зависти невольной не скрывая,
взволнованно глядела я на них.
Они не знают, как они счастливы.
И слава богу! Ни к чему им знать.
Подумать только! – рядом, оба живы,
и можно все исправить и понять…
1956
Этот стих был написан после самоубийства Александра Фадеева – известного писателя, любимца Сталина, Председателя Союза писателей СССР и … одновременно любовника Алигер, от которого у нее вне брака родилась младшая дочь Маша, тоже трагичной судьбы.
Роман с Фадеевым зародился вскоре после смерти ее первого мужа композитора Константина Макарова-Ракитина.
Муж-композитор погиб в самых первых боях где-то под Ярцевом. Алигер-вдова вымаливает у мертвого мужа право наслаждаться жизнью. Вот небольшой, наиболее известный отрывок оттуда:
… Позволь мне остаться
такой же,
такою,
какою ты некогда обнял
меня,
готовою в путь,
непривычной к покою,
как поезда, ждущею
встречного дня.
И верить позволь немудреною
верой,
что все-таки быть еще
счастью
и жить,
как ты научил меня,
полною мерой,
себя не умея беречь и делить.
Когда Алигер отнесла это стихотворение-поэму Ахматовой, та сказала: «Проблема та, что вы пишите о погибшем муже, а любите уже другого мужчину». Ахматова хорошо чувствовала людей.
Еще одно, более позднее стихотворение Алигер, тоже на любовную тему:
Прошу тебя,
хоть снись почаще мне.
Так весело становится во сне,
так славно,
словно не было и нет
нагромождённых друг на друга лет,
нагромождённых друг на друга бед,
с которых нам открылись рубежи
земли и неба,
истины и лжи,
и круча, над которой на дыбы,
как кони, взвились наши две судьбы,
и ты,
не оглянувшись на меня,
не осадил рванувшего коня.
1967
И это написано женщиной в 52 года. Или вот это стихотворение:
Перед зарёй
Ни с того ни с сего
ты сегодня приснился мне снова –
перед самой зарёй,
когда дрогнула мгла, –
и негромко сказал мне
хорошее, доброе слово,
и от звука его
я проснулась
и больше уснуть не могла.
Чтоб его не забыть,
я почти без движенья лежала.
Занимался рассвет,
в петушиные трубы трубя…
Вот и минула ночь!
А ведь я за неё возмужала.
До неё мне казалось,
что я разлюбила тебя.
Конечно, писала поэтесса не только о любви. Вот что было написано в год окончания войны, в которой она принимала непосредственное участие.
Летний день заметно убывает…
Летний день заметно убывает.
Августовский ветер губы сушит.
Мелких чувств на свете не бывает.
Мелкими бывают только души.
Даже ревность может стать великой,
если прикоснется к ней Отелло…
А любви, глазастой, многоликой,
нужно, чтобы сердце пламенело,
чтоб была она желанной ношей,
непосильной для душонок хилых.
Что мне делать, человек хороший,
если я жалеть тебя не в силах?
Ты хитришь, меня же утешая,
притворяясь хуже и моложе:
дескать, мол, твоя любовь большая,
а моя поменьше,– ну и что же?
Мне не надо маленькой любови,
лучше уж пускай большое лихо…
Лето покидает Подмосковье.
На минуту в мире стало тихо.
1945
Много стихотворений Алигер было посвящено гражданской тематике. Именно за эти стихи, в которых она как член партии четко следовала партийной линии, Алигер и давали правительственные награды. О том, как поэтесса еще до войны получила свой первый орден, рассказал в Литературной газете Вячеслав Огрызко.
«…Но Алигер тоже была не ангелом. Она вела бурную общественную жизнь. Подозреваю, что именно за это, а не за стихи ей в январе 1939 года дали первый орден – “Знак Почёта”.
О своём награждении Алигер узнала ночью 31 января 1939 года. Она уже спала, как ей с мужем вдруг громко постучали. “Был испорчен звонок, – вспоминала Алигер. – Я ещё не совсем проснулась от какого-то неясного сознания того, что в дверь стучат. Голый Костя пошёл к двери. Я сквозь сон слышала, как он спрашивал, кто? Как ему отвечали разные голоса из-за двери.
Он ответил:
– О, тут целая компания! Вот молодцы, что пришли. – Надел на голое тело шубу и на босые ноги боты и открыл дверь. Кто-то ввалились. Смутно различаю голоса Луговского, Кости Симонова… Костя кричит им: – Подождите, сейчас Ритка оденется. – Они не слушают, врываются в комнату, лезут прямо мне в постель, орут:
– Вставай, дура! Тебя наградили орденом!
Я не поверила, решила, что розыгрыш. Они тычут мне в лицо “Правду”, я читаю: “За выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы наградить:
Орденом Ленина:
Орденом Трудового Красного Знамени:
Орденом “Знак Почёта”.
Все родные фамилии, и моя. Вместо Алигер, Олигер. Но всё равно.
И началось. Ребята принесли шампанское. Коська тоже сбегал, принёс 2 бутылки. Целовались, каялись, говорили какие-то слова…
Потом вышли на улицу, снежную, солнечную, морозную…
Шли к площади Маяковского. Шли мимо райкома. Я затащила всех туда, прямо к секретарю ввалились совершенно пьяные. Но нас все поздравляли и велели кутить ещё 3 дня. Луговскому сказали: “Спасибо вам, товарищ Луговской, за нашу молодёжь”. Старик совсем расцвёл. Всем нам сказали: “Спасибо, товарищи, вы поступили по-партийному”.
Потом поехали к Антокольскому. Опять целовались, опять пили. Я свалилась, лежала, спала.
Посылали Женьке в Малеевку телеграмму: – Поздравляем заслуженной наградой. Кавалеры: Павлик, Володя, Костя, Рита. Жёны: Зоя, Сусанна, Женя, Костя. Кандидаты-орденоносцы: Раскин и Слободской. – Потом сидели в Восточном ресторане у Никитских ворот. Потом пошли в кино смотреть: “По щучьему велению». Потом заезжали к маме Кости Симонова. Наконец, часов в 10 вечера вернулись домой, сразу легли спать. Не тут-то было. Сначала пришёл Константин Михайлович Попов поздравлять, потом Крюков. Они ушли, я снова улеглась, но не тут-то было! Ввалились Женька с Данькой. Женька только что из Малеевки. Опять целовались”.
Напомню, что до награждения в активе Алигер был всего один не самый сильный сборник “Год рождения”, изданный в 1938 году. Алигер это сама прекрасно сознавала. Она верила, что вторая книга будет лучше. “Уже пошла в производство моя книжка “Железная дорога”, – писала Алигер 9 января 1939 года в своём дневнике. – И, по-моему, получилась очень складная-ладная книжка. Уткин выбросил “Матроса”. Я ещё буду драться, но, в конце концов, это не так важно. Важна вся книжка, а она уже пошла в ход”…»
Но особую известность Маргарита Алигер приобрела немного позже, когда уже во время войны написала поэму «Зоя», посвященную военной теме и знаменитой партизанке.
<…>
Как будто с картины о битвах на Пресне,
которая стала живой и горячей.
И нету похожих стихов или песни.
Была ты
Москвой —
и не скажешь иначе.
И те, кто родился на улицах этих
и здесь, на глазах у Москвы, подрастали,
о ком говорили вчера, как о детях,
сегодня твоими солдатами стали.
Они не могли допустить, чтоб чужая
железная спесь их судьбу затоптала.
А там,
у Звенигорода,
у Можая,
шла грозная битва людей и металла.
В твоих переулках росли баррикады.
Железом и рвами Москву окружали.
В МК
отбирали людей в отряды.
В больших коридорах
толпились, жужжали
вчерашние мальчики, девочки, дети,
встревоженный рой золотого народа.
Сидел молодой человек в кабинете,
москвич октября сорок первого года.
Пред ним проходили повадки и лица.
Должно было стать ему сразу понятно,
который из них безусловно годится,
которого надо отправить обратно.
И каждого он оглядывал сразу,
едва появлялся тот у порога,
улавливал еле заметные глазу смущенье,
случайного взгляда тревогу.
Он с разных сторон их старался увидеть,
от гнева в глазах до невольной улыбки,
смутить,
ободрить,
никого не обидеть,
любою ценою не сделать ошибки.
Сначала встречая, потом провожая,
иных презирал он,
гордился другими.
Вопросы жестокие им задавая,
он сам себя тоже опрашивал с ними.
И если ответить им было нечем,
и если они начинали теряться,
он всем своим юным чутьем человечьим
до сути другого старался добраться.
Октябрьским деньком, невысоким и мглистым,
в Москве, окруженной немецкой подковой,
товарищ Шелепин,
ты был коммунистом
со всей справедливостью нашей суровой.
Она отвечала сначала стоя,
сдвигая брови при каждом ответе:
– Фамилия?
– Космодемьянская.
– Имя?
– Зоя.
– Год рождения?
– Двадцать третий.
Потом она села на стул.
<…>
И дальше (другой отрывок):
<…>
Как собачий лай, чужая речь.
…Привели ее в избу большую.
Куртку ватную сорвали с плеч.
Старенькая бабка топит печь.
Пламя вырывается, бушуя…
Сапоги с трудом стянули с ног.
Гимнастерку сняли, свитер сняли.
Всю, как есть,
от головы до ног,
всю обшарили и обыскали.
Малые ребята на печи притаились,
смотрят и не дышат.
Тише, тише, сердце, не стучи,
пусть враги тревоги не услышат.
Каменная оторопь – не страх.
Плечики остры, и руки тонки.
Ты осталась в стеганых штанах
и в домашней старенькой кофтенке.
И на ней мелькают там и тут
мамины заштопки и заплатки,
и родные запахи живут
в каждой сборочке и в каждой складке.
Все, чем ты дышала и росла,
вплоть до этой кофточки измятой,
ты с собою вместе принесла –
пусть глядят фашистские солдаты.
Постарался поудобней сесть
офицер,
бумаги вынимая.
Ты стоишь пред ним, какая есть, –
тоненькая,
русская,
прямая.
Это все не снится, все всерьез.
Вот оно надвинулось, родная.
Глухо начинается допрос.
– Отвечай!
– Я ничего не знаю.-
Вот и все.
Вот это мой конец.
Не конец. Еще придется круто.
Это все враги,
а я – боец.
Вот и наступила та минута.
– Отвечай, не то тебе капут! –
Он подходит к ней развалкой пьяной.
– Кто ты есть и как тебя зовут?
Отвечай!
– Меня зовут Татьяной.
<…>
В подвиге партизанки Зои, которая не назвала своего имени и действительно стойко приняла смерть от фашистов, много белых пятен, о которых спорят до сих пор. То, что она – герой и очень мужественный человек, сомнений нет. Это и сегодня вызывает уважение.
Другой разговор, что по мнению ряда исследователей, партизанка совершила поджоги не в домах немцев, а в домах некоторых жителей самой деревни. Да и сами поджоги не относилось непосредственно к ее заданию. Но на казнь она шла с высоко поднятой головой, призывая к борьбе с гитлеровцами.
Вряд ли Алигер знала всю «подноготную» этой тяжелой военной истории, поэтому поэма была просто посвящена подвигу партизанки – герою.
И ещё одно известное стихотворение Маргариты Алигер также вызвало большой резонанс в обществе.
В 1946 году в журнале «Знамя» напечатали произведение поэтессы «Мы евреи». Это был отрывок из поэмы «Твоя победа». Тут же вся поэма подвергается жестокой критике и из нее изымается эта глава. А люди, распространявшие это стихотворение, подверглись репрессиям.
Вот какие варианты этого стихотворения приводит в своей статье Лев Рудский (WRN):
«…Маргарита Алигер
“МЫ – ЕВРЕИ”
(Глава из поэмы «Твоя победа»)
И, в чужом жилище руки грея,
Старца я осмелилась спросить:
– Кто же мы такие?
– Мы – евреи!
Как ты смела это позабыть?!
Лорелея – девушка на Рейне,
Светлых струй зелёный полусон.
В чём мы виноваты, Генрих Гейне?
Чем не угодил им Мендельсон?
Я спрошу и Маркса, и Энштайна,
Что великой мудростью сильны, –
Может, им открылась эта тайна
Нашей перед вечностью вины?
Светлые полотна Левитана –
Нежное свечение берёз,
Чарли Чаплин с белого экрана, –
Вы ответьте мне на мой вопрос!
Разве всё, чем были мы богаты,
Мы не роздали без лишних слов?
Чем же мы пред миром виноваты,
Эренбург, Багрицкий и Светлов?
Жили щедро, не щадя талантов,
Не жалея лучших сил души.
Я спрошу врачей и музыкантов,
Тружеников малых и больших.
И потомков храбрых Маккавеев,
Кровных сыновей своих отцов, –
Тысячи воюющих евреев –
Русских командиров и бойцов:
Отвечайте мне во имя чести
Племени, гонимого в веках:
Сколько нас, евреев, средь безвестных
Воинов, погибнувших в боях?
И как вечный запах униженья,
Причитанья матерей и жён:
В смертных лагерях уничтоженья
Наш народ расстрелян и сожжён!
Танками раздавленные дети,
Этикетка “Jud” и кличка «жид».
Нас уже почти что нет на свете,
Нас уже ничто не оживит…
Мы – евреи. – Сколько в этом слове
Горечи и беспокойных лет.
Я не знаю, есть ли голос крови,
Знаю только: есть у крови цвет…
Этим цветом землю обагрила
Сволочь, заклеймённая в веках,
И людская кровь заговорила
В смертный час на разных языках…
Но есть ещё один вариант, который я не могу не привести. Он ещё более жесткий, ещё более еврейский что ли…
…Разжигая печь и руки грея,
наскоро устраиваясь жить,
мать моя сказала: “Мы – евреи.
Как ты смела это позабыть?”
Да, я смела, – понимаешь? – смела.
Было так безоблачно вокруг.
Я об этом вспомнить не успела, –
с детства было как-то недосуг.
Родины себе не выбирают.
Начиная видеть и дышать,
родину на свете получают
непреложно, как отца и мать.
Было трудно, может быть, труднее,
только мне на всё достанет сил.
Разве может быть земля роднее
той земли, что верил и любил,
той земли, которая взрастила,
стать большой и гордой помогла?
Это правда, мама, я забыла,
я совсем представить не могла,
что глядеть на небо голубое
можно только исподволь, тайком,
потому что это нас с тобою
гонят на Треблинку босиком,
душат газом, в душегубках губят,
жгут, стреляют, вешают и рубят,
смешивают с грязью и песком.
“Мы – народ, во прахе распростёртый,
мы – народ, повергнутый врагом”…
Почему? За что? Какого чёрта?
Мой народ, я знаю о другом.
Знаю я поэтов и учёных
разных стран, наречий и веков,
по-ребячьи жизнью увлечённых,
благодарных, грустных шутников.
Лорелея, девушка на Рейне,
старых струй зелёный полутон.
В чём мы провинились, Генрих Гейне?
Чем не угодили, Мендельсон?
Я спрошу и Маркса и Эйнштайна,
что великой мудростью полны, –
может, им открылась эта тайна
нашей перед вечностью вины?
Милые полотна Левитана –
доброе свечение берёз,
Чарли Чаплин с бледного экрана, –
вы ответьте мне на мой вопрос:
разве всё, чем были мы богаты,
мы не роздали без лишних слов?
Чем же мы пред миром виноваты,
Эренбург, Багрицкий и Светлов?
Жили щедро, не тая талантов,
не жалея лучших сил души.
Я спрошу врачей и музыкантов,
тружеников малых и больших.
Я спрошу потомков Маккавеев,
кровных сыновей своих отцов,
тысячи воюющих евреев –
русских командиров и бойцов.
Отвечайте мне во имя чести
племени, гонимого в веках,
мальчики, пропавшие без вести,
мальчики, погибшие в боях.
Вековечный запах униженья,
причитанья матерей и жён.
В смертных лагерях уничтоженья
мой народ расстрелян и сожжён.
Танками раздавленные дети,
этикетка “Jud” и кличка «жид».
Нас уже почти что нет на свете,
но мы знаем, время воскресит.
Мы – евреи. Сколько в этом слове
горечи и беспокойных лет.
Я не знаю, есть ли голос крови,
только знаю: есть у крови цвет.
Этим цветом землю обагрила
сволочь, заклеймённая в веках,
и людская кровь заговорила
в смертный час на многих языках.
Вот теперь я слышу голос крови,
смертный стон народа моего.
Всё слышней, всё ближе, всё суровей
истовый подземный зов его.
Голос крови. Тесно слита вместе
наша несмываемая кровь,
и одна у нас дорога мести,
и едины ярость и любовь…»
В то время в стране уже начинали бороться с «космополитизмом», отсюда была и такая реакция в официальных и литературных кругах на это стихотворение.
А после смерти Сталина, который все-таки любил и высоко ценил поэтессу, ее перестали считать великой. Хотя понятие «великой» во времена, когда еще жили Ахматова, Пастернак, Есенин, было очень относительно. Однако говорить, что Алигер была лишь тенью больших поэтов, тоже неправильно.
Возможно, поэтесса действительно являлась в какой-то степени отражением советского общества. Но ведь и это тоже было тогда немало. И стоит ли забывать об этом, как и стоит ли забывать о нашей истории? Впрочем, каждый решает это сам для себя…
Лазарь Модель.