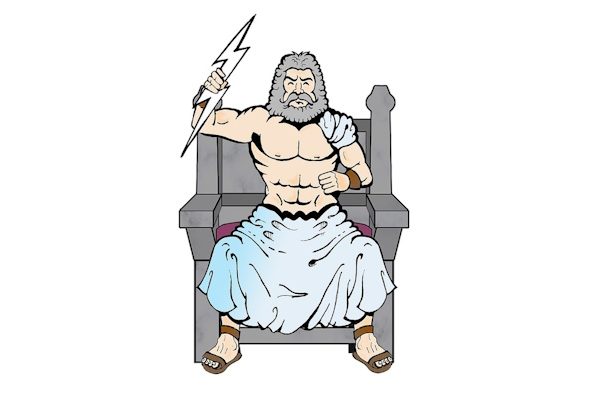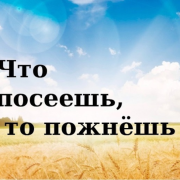Любовь Герцена
Александр Иванович Герцен с детства любил свою кузину Н. А. Захарьину и вел с ней обширную любовную переписку. Вот одно из писем.
А.И. Герцен — Н.А. Захарьиной. 15 января 1836 г.
«Милая, милая невеста! Что чувствовал и сколько чувствовал я неделю тому назад? Каждая минута, секунда была полна, длинна, не терялась, как эта обычная стая часов, дней, месяцев. О, как тогда грудь мешала душе, эта душа была светоносна, она хотела бы порвать грудь, чтоб озарить тебя.
Пятый час; я стоял перед Emilie теперь, а внутри кипела буря, нет, не буря, а предчувствие, — его испытает природа накануне преставления света, ибо преставление света — верх торжества природы. Душа моя до того была поглощена тобою, что я почти не обратил внимания на город, и ежели я ему бросил привет горячий, со слезою, когда его увидел, он не должен брать его на свой счет, и этот привет был тебе, с ним мы увидимся после.
Возвращаясь, я еще меньше думал об нем, смотрел пристально и видел в воздухе туманно набросанный образ Девы благословляющей.
Когда мы искали дом Emilie, извозчик провез мимо вас, я увидел издали дом и содрогнулся, я умолял К. воротиться, так сразу я не мог вынести тот дом.
Вечером я подошел смелее, мысль близости обжилась в груди. Утром, когда я всходил, мне так страшно было, я убежал бы от собачонки, от птицы. Ты дала мне время собраться.
Ожидая тебя, я стоял, прислонясь локтем к печи и закрыв лицо рукою, — поклонись этому месту. Потом я бросил взгляд, любви полный, на фортепиано и на пяльцы, которые стояли на полу (верно твои), потом быстро влетела ты, — об этом и теперь еще не могу говорить. Да и никогда не буду говорить, оно так глубоко в душе, как мысль бессмертия. Знаю одно: я тебя разглядел, когда уже мы сидели на диване, до этого наши души оставили тела, и были одна душа, они не могли понять себя врозь.
8 часов вечера. Дай, дай, моя подруга, моя избранная, дай еще прожить тем днем. Восемь… Льется огонь из верхнего окна, я стоял в переулке, прижавшись к забору, К. ушел, я один. Вот Аркадий — так, стало, в самом деле я близко, вот Костенька — да, да я ее увижу, завтра в пять часов в путь. «Чего вы желали бы теперь от Бога?» спросил, шутя, гусар вечером. «Чтобы этот пятак превратился для мира в часы»; гусар думал, что я с ума сошел. «Для чего?» — «Он не умет показывать ничего, кроме пять, а в пять туда к ней».
К подробностям этих дней надобно сказать, что я два дня с половиной ничего не ел, кусок останавливался в горле.
Позже. Ты моя невеста, потому что ты моя. Я тебе сказал: «у меня никого нет, кроме тебя». Ты ответила: «да, ведь я одна твое создание».
Да, еще раз, ты моя совершенно, безусловно моя, как мое вдохновение, вылившееся гимном. (Приписка сбоку). И как вдохновение поэта выше обыкновенного положения, так и ты, ангел, выше меня, — но все-таки моя. Оно телесно вне меня, но оно мое, оно я. Тебе Бог дал прелестную душу, и прелестную душу твою вложил в прелестную форму. А мысль в эту душу заронил я, а проник ее любовью — я, я осмелился сказать ангелу: люби меня, и ангел мне сказал: люблю.
Я выпил долгий поцелуй с ее уст, один я и передал ей поцелуй. Моя рука обвилась около ее стана, — и ничья не обовьется никогда. Понимаешь ли эту поэзии, эту высоту моего полного обладания? В минуту гордого упоенья любви я рад, что ты не знала любви отца и матери и эта любовь пала на мою долю.
Вчера читал я Жан-Поля, он говорит: любовь никогда не стоит, или возрастает, или уменьшается, — я улыбнулся и вздумал предостеречь тебя, а то я кончу тем, что слишком буду любить, сожгу любовью.
Скоро ночь — святая, а там и седьмой час. Отчего же я так спокоен теперь, а 3 марта не прошедшее, вот оно живое, светлое в груди. Умереть, — нет еще, не вся чаша жизни выпита, жить, жить! Будем сидеть долго, долго, целую ночь, и когда солнце проснется, и когда утренний Геспер — блеснет, выйдем к ним и под открытым небом сядем с ними, тогда умрем. Стены давят, опасность давит, быстрота давит.
Тогда же одна гармония разольется на душе, ей будет тепло, и труп согреется солнцем. Или на закате, когда усталое оно падет на небосклон, и кровью разольется по западу и изойдет в этой крови, и природа станет засыпать, — тогда умрем. И роса прольет слезу природы на холодное тело. А чтоб люди были далеко, далеко!
Ты писала как-то: в их устах наша любовь выходит какой-то мишурной. Это ужасно! Да, я ни слова о тех людях, которые не люди, но большая часть людей в самом деле, как судят. Нас поймет поэт, — этот помазанник Божий, мир изящного, поймет дева несчастная, поймет юноша, любящий безгранно (а не любивший, тот, для кого любовь былое, воспоминанье — тот покойник, труп без смысла).
Из друзей близких найдутся, которые пожмут плечами и пожалеют обо мне от души: «она увлекла его с поприща, на женщину променял он славу»… и посмотрят свысока.
Слава Богу, что пустой призрак, слава, наука может наполнять их душу; ежели бы не было его и не было бы девы, они ужаснулись бы пустоты, и их грудь проломилась бы как хрусталь, из которого вытянут воздух. Нет, Наташа, я знаю все расстояние от жизни прежней и до жизни в тебе. Тут-то мне раскрылось все, а тебе целая вселенная любви, целый океан, — носись же, серафим, над этим океаном, как Дух Божий над миром, им созданным из падшего ангела.
Natalie, Natalie! До завтра, прощай. — Завтра письмо, как будто год не имел вести, душа рвется к письму. Неужели может быть любовь полнее нашей? Нет! Жаль Emilie, зачем она едет, она должна быть, когда на наших головах будет венец, — это зрелище еще лучше вида с Эльборуса. Благослови твоего суженого — Александра».
А.И. Герцен — Н.А. Захарьиной. 9-е марта 1838 г. Середа.