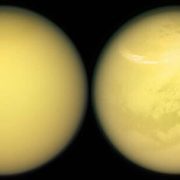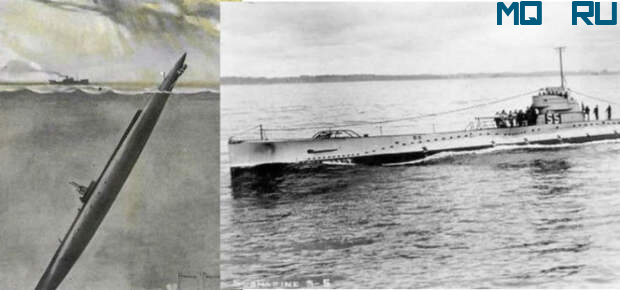Герман Арутюнов: Глава 33. Река памяти
Андрей Тарковский… один из всемирно великих кинорежиссеров XX века, наш соотечественник. Его творчество до сих пор остается загадкой, его фильмы, как картины Леонардо да Винчи, позволяют наблюдать себя, не впуская, но как будто и сами наблюдают за нами, излучая при этом магический свет. Возможность побывать там, где родился талантливый человек, значит прикоснуться к истокам, еще раз убедиться, что все самое ценное в нас входит в детстве. Так говорят, но так ли это?
В Юрьевце, маленьком городке Ивановской области, месте рождения Тарковского, это прикосновение происходит каждый год в апреле, когда здесь проводятся дни памяти художника. Давно хотелось побывать в этих краях, посмотреть на город, на Волгу, на брейгелевский пейзаж из его фильма «Зеркало», на все, что в детстве вошло в память Андрея Тарковского и потом питало его творчество…И вот еду…
За окном поезда’ »Москва — Кинешма» проносятся еще покрытые снегом поля, леса, реки и речушки, скованные льдом — ни намека на живую воду, на течение, на поток. Может, поэтому, на контрасте, вдруг вспоминаются стихи моего любимого поэта Арсения Тарковского, отца Андрея:
«Он у реки сидел на камыше,
Накошенном крестьянами на крыши,
И тихо было там, а на душе
Еще того спокойнее и тише.
И сапоги он скинул. И когда
Он в воду ноги опустил, вода
Заговорила с ним, не понимая.
Что он не знает языка ее.
Он думал. что вода — глухонемая
И бессловесно сонных рыб жилье..
И вправду чуден был язык воды,
Рассказ какой-то про одно и то же,
На свет звезды, на беглый блеск слюды.
На предсказание беды похожий.
И что-то было в ней от детских лет,
От непривычки мерить жизнь годами
И от того, чему названья нет,
Что по ночам приходит перед снами…»

Андрей Тарковский с рабочим названием фильма «Зеркало»
В фильмах Тарковского камера постоянно замирает перед водой как перед божеством: завороженно следит за тем, как она колышет траву (с этого начинается и этим заканчивается «Солярис»), как стеклянными затвердевшими брызгами рассыпается из ведра или зеркалом смотрит из колодца («Иваново детство»), как покрывает остатки цивилизации и качается над ними словно увеличительное стекло, подчеркивая преходящесть всего, что сопутствовало человечеству («Сталкер»). То есть вода не только начало жизни, но и ее конец, как у Ф. Тютчева:
«Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных,
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!»
Видимо, потому, что вода, как главный актер, приглашенный режиссером из мастерской природы, великолепно может держать все действие одна и уже просто не требуется никаких других персонажей.
Вода…Человек тоже может уподобляться воде, приобретать ее текучесть, проточность. Но редко, разве что когда поет. Тогда мелодия течет сквозь него, как время, а он сам — мгновенно меняющееся русло рождающейся реки звуков…
Эта мысль возникла случайно, совершенно неожиданно. Когда открыл взятую с собой любопытную книжку французского путешественника маркиза де Кюстина «Записки о России» и вдруг наткнулся на эпизод, связанный с Юрьевцем. Именно здесь, в лесу, в 1839 году тарантас француза, расшатанный бесконечными подъемами и спусками местных дорог, развалился. И пока его камердинер и встреченный, по счастью, местный мужик чинили экипаж, де Кюстин извлек из дорожного бюро дневник и записал:
«Унылость русских песен поражает всех иностранцев. Но эта музыка не только меланхолична, она слагается из мелодий, являющихся плодом вдохновения, какие в других странах получаются лишь путем изучения и расчета…»
Почему де Кюстин здесь, в Юрьевце, из множества своих дорожных впечатлений записал именно это — про унылую русскую песню? Видел сквозь деревья с высокого берега Волгу, ее течение, и возникла ассоциация с мелодией, так же плавно движущейся во времени? Может быть. А может, сама Волга, текущая рядом, внизу, у самого города, и наполняющая все вокруг вибрацией движения, навела француза на воспоминание об унылых русских песнях… Ведь именно это и пытался делать в своих фильмах Андрей Тарковский — искал всеобщие взаимосвязи, глубинные причины наших мыслей и чувств, воссоздавая ассоциации с помощью кино!

Дом в Юрьевце, где жили Тарковские
Да что мы вообще знаем о том, как влияет на нас природа? Прослеживал кто-нибудь, как сам собой меняется ход наших мыслей в связи с новым рельефом местности? Я имею в виду не реакцию на изменяющийся ландшафт, а наше интуитивное ощущение всего окружающего пространства целиком, как бы ощущение его дыхания… Сложно? Но такова уж природа творчества Тарковского — напряженная, поисковая, граничащая с тайной. Думаешь о нем, прокручиваешь в голове эпизоды фильмов и невольно напрягаешься, как тетива лука, направленного в… вечность или в никуда. И странные возникают вопросы…
Почему, например, Волга плавно течет вдоль Юрьевца, как и мимо других волжских городов, но сразу за ним (это прямо-таки бросается в глаза на карте) делает резкий, почти под прямым углом, прыжок к югу? Странность в том, что вопросы причины мы обычно не задаем неодушевленным предметам, только живым существам или тем, в ком предполагаем душу. И раз возникает такой вопрос к реке, значит одушевление природы — это качество, приобретаемое в соприкосновении именно с творчеством Тарковского. Он, если можно так сказать, добавляет души в окружающее пространство, одушевляя природу, предметы, явления. И, видимо, истоки этого качества можно найти здесь. Ведь и большая река всегда начинается в верховьях, с крохотного ручейка…

Арсений Тарковский с Андреем в Переделкино. 1972 г.
С другой стороны, унылость русских песен, подмеченная де Кюстином в Юрьевце, и печаль картин Тарковского… Может быть, здесь тоже есть какая-то взаимосвязь? И если Тарковский считается представителем духовного кино, а русский народ — одним из наиболее духовных народов, то означает ли это, что печаль — признак духовности?
Два часа всего идет автобус от Кинешмы до Юрьевца, но открытость местности, бесконечные поля за окном продлевают время. Минута кажется двумя. В Москве пространство зажато домами; может быть, поэтому и время городское стиснуто, и жизнь кажется быстротечной. А здесь бесконечность горизонта съедает границы. И, когда уже в самом Юрьевце распахивается перед глазами ширь Волги, вдруг становится понятной кажущаяся затянутость фильмов Тарковского. Видимо, это происходит от иного ощущения нами пространства и времени, привычно-плоского, цивилизованного, что ли, от привычки сознания довольствоваться информацией происходящего, сменой впечатлений, а не живым процессом жизни.
Автобус останавливается на главной площади города, где сосредоточено все, что бывает у нас в центре небольших провинциальных городков:
памятник В. И. Ленину,
здание горкома и исполкома,
главная гостиница.
Но в глаза бросается не это, а высоченная колокольня, люди с ведрами воды, но не в руках, а как в старину — на коромысле, горка, на которую дома карабкаются, как мальчишки с санками (кстати, на деревянных санках здесь до сих пор возят грузы), да центральная улица, тянущаяся через весь город, как в деревне.
До 1956 года, когда еще не было Горьковского водохранилища, Волга была ниже, и вдоль нее шла еще одна главная улица, что и подметил Арсений Тарковский:
«Вот Юрьевец, Юрьевец, город какой —
Посмотришь в бинокль на него с высоты —
У самой воды, под самой горой
В две улицы тянется на три версты.»
Стихи Арсения Александровича звучат здесь в апрельские дни каждый год. Их читают приезжающие на дни Андрея Тарковского актеры, снимавшиеся в его фильмах, экскурсоводы, просто местные жители, любители поэзии. Это не случайно. Творчество отца-поэта органично вошло в творчество сына-режиссера, который преклонялся перед отцом, его космическим восприятием жизни, духовной чуткостью, включал его стихи в свои фильмы фоном, особенно в «Зеркале».

Юрьевец. Улица вдоль Волги, параллельная главной
Вот и сейчас в деревянном доме, ставшим теперь музеем Андрея Тарковского, звучат стихи отца. Из двух комнат убрана перегородка, и получился небольшой зальчик. Рядами расставлены стулья, в углу большая фотография Андрея, под ней — горящие свечи. Молодая женщина, экскурсовод из Иваново, читает стихотворения: «Дерево Жанны», «Руки», «Дождь», «На берегу», и вместе со звучащим словом возникает то самое странное объемное ощущение мира, которое свойственно стихам отца и фильмам сына.
Судя по прошлым годам, когда Дни режиссера, организованные местными властями и Фондом Тарковского, созданного при Союзе кинематографистов России, собирали в Юрьевце сотни людей, когда приезжали актеры, родственники, друзья, искусствоведы, когда экскурсии по городу и окрестностям чередовались с просмотром фильмов и их обсуждением, можно было и в этом году ожидать чего-то подобного. Не получилось. Многие по разным причинам не приехали. Ведь все требует организации, а в этом году у местных властей не оказалось достаточно денег; На одном же голом энтузиазме, когда государство экономит на культуре, далеко не уедешь.
Хорошо уже и то, что сохранен дом в деревне Завражье (в нескольких километрах от Юрьевца), где в 1932 году родился Андрей Тарковский, что в самом Юрьевце освобожден под музей и приведен в порядок деревянный дом (это тоже стоит денег), где жил в 1941 — 1943 годах Андрей с мамой, бабушкой и сестрой. Не так давно он еще был занят жильцами, теперь, когда их расселили, он пуст, очищен от обоев, которых за более чем 80 лет наросло множество слоев. И обнажились те самые бревна, которые Андрей запомнил на всю жизнь. Помните в его автобиографическом рассказе «Белый день»?
«Комната была наполнена солнечными отражениями, дрожащими на гладко выструганных медовых стенах, полутенями кружевных занавесок, бродивших по полу и вызывавших привычное головокружение, от которого пол уходил из-под ног…»
Теперь здесь можно устраивать и поэтические вечера с чтением стихов отца, перекликающихся с творчеством сына, и просмотры фильмов, принимать гостей из других городов России, СНГ и зарубежья, накапливать материалы (которых становится все больше) и документы, связанные с Тарковскими, собирать видеокопии фильмов Андрея и документальных фильмов о нем, хранить переписку со всеми, кто интересуется его творчеством. Этот самый обычный деревянный дом, расположенный на улице, названной в его честь, теперь становится культурным центром, отличающимся от других подобных центров атмосферой высокого духовного напряжения, которое всегда было свойственно поэзии отца и киноискусству сына. Но уровень этот не каждому доступен. Ведь даже те, кто неравнодушен к фильмам Андрея Тарковского, какие-то смотрят по нескольку раз, а какие-то — с трудом досматривают до конца. Что же говорить о массовом зрителе?

Улица Тарковского (бывшая Энгельса) в Юрьевце
В апреле в дни Тарковского в одном из помещений музея, доме князей Черкасских, работники местного краеведческого музея каждый день показывают по одному фильму Андрея, начиная с «Иванова детства» и кончая «Жертвоприношением». Но на просмотрах бывают только туристы из других городов, а из местных жителей — никого, хотя объявления по городу висят.
«Когда несколько лет назад, —поясняет сотрудник краеведческого музея Галина Михайловна Стецкая,— мы стали проводить в Юрьевце дни Тарковского, то просмотры устраивали в большом зале Дома культуры, и зал был полон. Но за эти годы народ все фильмы пересмотрел. А второй раз идти на них уже не хотят. Видимо, потому, что такое кино требует умственных усилий, заставляет думать, держит в напряжении».
Я разговариваю с Галиной Михайловной после фильма «Зеркало», самого трудного, как многие считают, для понимания и самого в то же время автобиографичного для Андрея Тарковского. Картина как раз и начинается с предельно напряженной сцены, когда в комнате подросток и женщина-врач. Она говорит: «Все свое горячее желание победить ты сосредоточиваешь в своих руках. Если не сейчас, то никогда!»
Он держит руки прямо перед собой. В лице, во всей фигуре предельное напряжение. Пальцы выпрямлены и едва ли не вибрируют. Парень хочет избавиться от заикания. Но откуда оно, что с ним случилось? Этот вопрос пожилая женщина задает врачу в финале фильма.
«Это бывает, —отвечает тот, — когда умирает кто-нибудь из близких или еще какое-нибудь потрясение.
— Но у него ведь никто не умирал.
— Ну, не обязательно из-за этого только. Ведь есть же совесть, память»…
Память… вот Вселенная, которую исследует Тарковский. Как объяснить или показать, что нас сформировало?
Зеркало, отражая все и вся, не разбивается, не лопается, потому что — предмет. Не живое. А память ребенка? Она предельно живая, память маленького человека, рядом с которым все сразу: война, разлады отца с матерью, природа, скрывающая свои тайны, загадочное искусство Возрождения. Мир, опрокинувшийся и гармоничный, спокойный и тревожный, со встречей отца, неожиданно приехавшего с фронта, с рисунками Леонардо и одновременно с желанием досадить сестре, толкнуть ее, чтоб она заплакала. Почему все это вспоминается, почему именно это? Почему не уходит из памяти? И надо бы, может быть, чтоб ушло, а не уходит.

Юрьевец. Вдоль торговых рядов
Андрей Тарковский потом вспоминал, что фильм «Зеркало» помог ему избавиться от кошмаров детства. Но то ли это, что мы понимаем под словом «кошмар»? А может, просто это — постоянное ощущение всеобщей взаимосвязи всего со всем и неосознанное стремление объяснять себе эту взаимосвязь, движение друг к другу воспоминаний из разных времен?
Поэтому горестно звучат на фоне кадров детства стихи отца из его потрясающего стихотворения «Эвридика»:
«Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный,
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело и сухо
Земля шумит в ушах.»
Но дети не зажмуривают глаза и не закрывают уши ладошками. Зеркало памяти впитывает и деревенский пожар (оранжевое зарево в бледно-зеленой рамке леса), и хлопанье крыльев петуха, бегающего без головы по сеням, и сон с ночным умыванием матери, когда распущенные волосы и взмахи рук делают ее похожей на большую белую птицу. И, кажется, еще немного — и поймешь, для чего все, весь мир и ты сам в нем. И это ожидание похоже на приближение к дому с закрытой дверью. Стоит только войти — и все откроется, все прояснится. И вдруг… штукатурка, как в замедленном кино, отрывается от потолка… война…
Конечно, такой фильм трудно понять с ходу, информационно, как мы привыкли. Его можно смотреть и смотреть, каждый раз открывая для себя что-то новое. Потому, что кубики памяти у всех разные. Но Тарковский поймал процесс их сборки, уловил таинство соединения, слепливания, срастания невидимого. Это и есть своего рода магия, проявляющая невидимые механизмы бытия. И в то же время тут важна каждая деталь, не дай Бог что-то упустить. Тогда мгновенно все разрушится. Целое без одного только атома уже будет не таким, не живым.
Вот, наверное, почему, когда в начале семидесятых Андрей Тарковский приехал в Юрьевец, чтобы снимать эпизоды для «Зеркала», то был разочарован: все неузнаваемо изменилось. И действительно, не то чтобы одна деталь, многое безвозвратно ушло. Разлилась Волга, раздвинувшись от 1 до 15 километров; срыли знаменитую Георгиевскую горку — нужен был песок для дамбы; дом в Завражье, чтобы не ушел под воду, разобрали и перенесли (да и то только верхний этаж) на более высокое место.
Эту тему — утраченного — краешком затронул общий разговор в юрьевецком Доме культуры. Директор, Ирина Николаевна Киселева, по моей просьбе собрала земляков Андрея Тарковского, тех, кто в разные годы соприкасался с ним, знал его, кому он небезразличен.
«После разлива Волги, —говорит музыкант Александр Валентинович Фотеичев,— не то чтобы ничего не осталось от прежнего города, но изменился его облик. И дело не только в том, что срыли Георгиевскую горку и поставили бетонную дамбу, омертвившую весь берег. Изменения произошли буквально во всем. Сколько церквей было разрушено — 10 из 14. А как красиво было у пристаней, где стояла Жиловская мельница… эти домики, ларечки, круглые колодцы, кристальные ключи, эта чудная природа… «Зеркало» только здесь и могло родиться. А в этой стоячей воде, в этой «болотине», которая теперь, ничего бы не вышло».
Из ушедшего под воду вспомнили и про маленький островок — «гусятник», который назвали так потому, что там росла огромная капуста и ее любили щипать гуси.
«Я гляжу на картину И. Левитана «Вечерний звон», —рассказывает краевед Борис Александрович Владимиров, — и вижу этот островок, рядом лодки. Так вот островок этот в войну многих, в том числе и меня, своими овощами спас от голодной смерти… Поэтому, наверное, картина в памяти остается».
«А я помню, —добавляет Маргарита Михайловна Полушкина, сидевшая с Андреем Тарковским за одной партой, — в войну перевоз через Волгу. Запомнилось, как жмых перевозили. Он тогда назывался почему-то дуранда. Был сильно вкусный. На перевозе всегда стояла очередь с возами, и на каждом было что-то… И мальчишки постоянно чего-нибудь тягали: картошку или дуранду. А еще подстригали у лошадей хвосты — на леску для рыбалки. И вот стоишь и слышишь крик: «Митька, глянь-ко, у тя лощадь-то стрягут!»
Эпизоды эти, может быть, не очень значительные и напрямую не относятся к Андрею Тарковскому, хотя и он мальчишкой в 1941 — 1943 годах все это мог наблюдать. Но они привлекают внимание к тайне памяти, над которой он, видимо, ломал голову, исследовал эту тему в своих фильмах, особенно в «Зеркале». И в самом деле, почему именно те, а не другие мгновения и картины наша память выхватывает из разных лет и упорно сохраняет?И как потом эти кадры, вынесенные во взрослую жизнь, работают, как проявляют себя?

Колокольня в Юрьевце и сейчас — главный духовный ориентир
С другой стороны, эти воспоминания земляков Андрея Тарковского привели меня к неожиданному для себя выводу, впрочем, может быть, и ошибочному. Получается, о чем бы ни говорил русский человек, о чем бы он ни вспоминал, обязательно приходит к ностальгии по утраченному. Американец, скажем, вряд ли будет тратить время на переживания по тому, чего уже нет. Да и во всех западных методиках на тему «путь к успеху» видишь советы давать ход лишь тем мыслям, которые приводят к практическим результатам. А наш брат, россиянин, без непрактичных мыслей не может. У нас в языке даже слово такое есть — «страдания», обозначающее не только горе и боль, но и просто печальную мелодию или лирическое настроение.
И вот это ностальгическое свойство русской памяти можно объяснить только одним — просторностью души, в которой прошлому нисколько не тесно рядом с настоящим и с будущим. Оно ценится, поскольку постоянно (хотя, наверное, и подсознательно) ощущается как реальность. Это как река, у которой нет прошлого, настоящего и будущего, несмотря на то, что какой-то частью своей она уже текла в одном месте, а в другом еще не текла. И люди с такой душой обладают текучестью сознания, способностью воспринимать мир как процесс, как перетекание времени и пространства из одной формы в другую.
Таким человеком, очевидно, был отец Андрея — поэт Арсений Александрович Тарковский, который писал:
«Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.
Живите в доме — и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом,
А стол один — и прадеду и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И, если я приподнимаю руку,
Все пять лучей останутся у вас…»
Таким же был, как мне кажется, и Андрей, для которого времени иногда тоже как бы не существовало. Как не существует времени для любого творческого человека, когда он вдруг ощущает себя внутри течения жизни. Замечательно, когда нам даруется это ощущение.
Мне, например, вначале никак не открывались эти места как что-то близкое к Тарковскому, как источник объемного видения мира, которое просматривается во всех его фильмах. Помогла встреча с человеком, усилиями которого, можно сказать, и начались дни Тарковского в Юрьевце, — с молодой учительницей истории Светланой Жихаревой. Несколько лет назад стала она собирать материалы об Андрее Тарковском, разыскивать тех, кто знал его, помнил его семью. Накопилось несколько папок документов, свидетельств, воспоминаний.
Символично, что и дом, где живет Светлана, расположен в историческом месте, на горе, в бывшем «чистом поле», где в войну ребятишки собирали колоски, а за ними шли проверяющие. Потом детей обыскивали и за обнаруженные в карманах зерна судили. И такое было…
«Можно ли предположить, —спрашиваю я Светлану, — что Андрея Тарковского сформировали именно эти места, Юрьевец, Завражье, события тех лет? Ведь для художника, одержимого идеей природы как живого существа, особенно важны впечатления детства. Раз он язык природы пытался переложить на язык образов, понятий, ассоциаций…»
«Трудно говорить о прямом влиянии, —говорит Светлана, — Философское восприятие жизни у Андрея Арсеньевича, понимание природы и искусства — это, конечно, влияние семьи… Я, когда общаюсь с Мариной Арсеньевной, чувствую излучение подлинной культуры, разносторонность, интеллигентность. А впечатления детства… о них можно судить по рассказам местных жителей, сторожилов здешних мест. Вот, например, зима»…
(Светлана листает записи разных лет: свои мысли, воспоминания очевидцев, документы…):
«Дымят трубы. Дым белый, какой-то густой, плотный. Ветки деревьев переплелись в замысловатую сетку. Улица скрипит и сверкает. В небе отражается зима. Белеющая издали колокольня кажется вылепленной из снега. Размахом своим притягивает река. Неумолимо охватывает чувство простора. И когда вы стоите рядом, и когда вы оглядываетесь, поднимаясь на городские горы, трудно понять, где кончается река и начинается небо. Тонкая линия противоположного берега не разрушает единства сфер…»
Или о ледоходе:
«Шум движущегося льда приближается издалека. Воздух чист и прозрачен. Огромные глыбы, вздыбленные могучим напором, не выдержав, рассыпаются, и треск льда уже трудно назвать треском, скорее это гром, возвещающий о пробуждении воды. Смотреть ледоход мы бежали сразу после уроков. Волга несла обломки лодок, бревна, непонятно откуда взявшиеся стожки сена. Однажды с замиранием мы следили, как коза с козленком, прыгая с одной льдины на другую, стремились к берегу. Не знаю, можно ли привыкнуть к этому зрелищу…»
Или о колокольном звоне:
«Колокола — тема особая для Юрьевца. Было время, когда мальчишки могли сколько хочешь звонить в честь Масленницы. А на Пасху уже весь город погружался в звон. Звучание юрьевецких колоколов считалось особенно музыкальным, тонким, изящным, оно хорошо было слышно, плывя над водой и перекликаясь с колоколами окрестных сел».
«Плыл вниз от Юрьевца по Волге Звон пасхальный…»
Эти строки написал поэт Арсений Тарковский здесь, в Завражье, в 1932 году».
Я слушаю, как Светлана читает, перебирая стопку густо исписанных листов бумаги, и мне вспоминаются эпизоды фильмов Андрея Тарковского, ниточки от которых тянутся сюда, к звучащему сейчас Слову. Вот брейгелевский зимний пейзаж из «Зеркала», отдельные детали которого нет-нет да и попадаются в Юрьевце: склон горы сквозь сетку деревьев, фигурки людей и еле заметные цепочки тянущихся следов.

Брейгелевский пейзаж в Юрьевце. Кадр из фильма «Зеркало»
Вот сирота Бориска из «Андрея Рублева», спотыкаясь и падая, бредет в своем XV веке под проливным дождем, ищет глину для формы колокола, а мне видится пятилетний Андрей, смотрящий, как рушат церковь и сбрасывают колокола. Светлана нашла в его записях сцену разрушения храма. Наверное, видел это собственными глазами и первоначально даже включил, было, в сценарий «Зеркала».
Вот пожилой человек с мальчиком сажают сухое дерево в «Жертвоприношении», и старший учит, что, если его поливать и верить, то оно зазеленеет. А я вижу много таких деревьев здесь, в Юрьевце, голых и, кажется, совсем безжизненных, накануне весны, которые скоро зацветут.
В природе подобные чудеса происходят постоянно, мы просто их как бы не видим и потому не удивляемся…
Я говорю об этом Светлане и еще о чем-то, о каких-то видимых и невидимых связях между фильмами и городом, тем, что сохранилось, тем, что было и ушло.
«Что-то есть, —соглашается она, — и что-то узнаваемо. Например, гудок парохода в фильме «Ностальгия». Те, кто помнят наш, юрьевецкий, гудок, понимают, что он отсюда, из этих мест, попал в «Ностальгию». И эпизод с колоколом в «Андрее Рублеве», возможно, возник на основе юрьевецких впечатлений.Колокола здесь, скорее всего, были местные, отливались с использованием местной глины. Ведь в Юрьевце когда-то была иконописная школа. Потом гонения на старообрядцев привели к тому, что школа распалась, а богомазы ушли по деревням. Надо бы покопаться по архивам. Часть их в Костроме и Иванове сгорела. Но что-то осталось. Есть ценные материалы и в нашем краеведческом музее, настолько уникальные, что люди приезжают писать диссертации… например, по народным промыслам. Наверняка и Андрей ходил в краеведческий музей. Нужно работать, искать»…
«А разве вы, —спрашиваю ее, — не привлекаете к своей поисковой работе школьников? Ведь наверняка с тех пор, как начали собирать материалы, появились единомышленники, взрослые, школьники»…
«Вначале да, а потом как-то поостыли. Наверное, не готовы еще мы, тем более дети, воспринимать Тарковского. И мой вывод: нужно заниматься просвещением. У меня было несколько увлеченных ребят и девочек, они искали людей, которые что-то могли рассказать, поделиться воспоминаниями. Но с возрастом у них появились другие интересы. И потом городок наш — маленький, всего несколько школ. Будь больше выбор, возможно, сформировалась бы рабочая группа. А так…
Была у нас идея: детская туристическая станция. Чтобы на каникулы привозить детей из Иванова, Кинешмы, других городов, чтобы они тут жили, а я с ними ходила по городу и окрестностям, все показывала, рассказывала, чтобы они сами могли тут все облазить, посмотреть фильмы, обсудить их. Я уже даже, было, договорилась, чтобы дали катер, покатать по Волге, доехать до Завражья. Нашли гостиницу, где ребята могли бы жить… Но в последний момент позвонили и говорят: не можем набрать группу, нет желающих. Даже такой большой город, как Иваново, не смог набрать одну группу на экскурсию «По местам Тарковского».
И вообще столько было замыслов хороших. Актер Юрий Назаров, уезжая, сказал мне: «Света, только чтобы все это не погибло…» А что я могу?..»
Трудность в том, чтоязык Тарковского — как бы порог, который сразу так вот не переступишь. Чтобы понять его, нужно смотреть не рядом, а туда, в глубь времени. К этому школа не готовит… Через несколько дней мне выступать в библиотеке в клубе по интересам — меня попросили старшеклассникам рассказать о Тарковском. Еще одна встреча предстоит в ближайшее время в школе. А я переживаю: как ребята будут воспринимать? Я тут как-то попробовала со своими школьниками поговорить о Библии… вы знаете, как это грустно, как они далеки от этого мира, от этого уровня восприятия жизни…
Да и как вообще можно рассказывать о фильмах Тарковского? Их надо смотреть, слушать, ощущать!Эту неторопливость, эту пристальность, эту замедленность. Надо видеть, какими приемами он создаетощущение таинства жизни, невидимой работы, которая все время продолжается, ежеминутно творя что-то новое… Как я об этом буду говорить? За один раз этого не покажешь и не расскажешь…»
О Тарковских Светлана может говорить часами. Но есть дела, жизнь-то идет. И мы прощаемся. Приглашает: «Приезжайте к нам еще!»
За несколько часов солнце подтопило снег, и тропинка, выводящая на дорогу, подтаяла, так что теперь при каждом шаге приходится проваливаться едва ли не по колено. Когда это надоело, я присел на бревнышко около одного из домов, рядом с мужиком, который, кончив рубить дрова, перекуривал.
«Набрал воды-та?» —Не то спросил, не то посочувствовал он, кивая в сторону моих намокших брюк и ботинок. И добавил, — Торопимся все… А куда торопимся? Я во-о тоже… — он показал свежую царапину на руке, — заспешил, так чуть не отхватил себе… Торопливость-та»…
Больше ничего не было сказано. А мне вдруг вспомнились слова одного моего знакомого, с которым как-то зашел разговор о фильмах Тарковского. «Понимаешь, —говорил он, — не могу я до конца ни один его фильм досмотреть — все как в замедленном кино. Слишком быстро живу, что ли, черт его знает…»
Дальше иду я уже не торопясь и почти не проваливаюсь. Присматриваюсь к тропинке, и начинает возникать интуитивное ощущение плотности снега. Видимо, изменилось что-то и в восприятии в целом, потому что, когда вышел на твердую дорогу и уже не надо было сосредоточиваться на снеге под ногами, город открылся иным.
Двухэтажные деревянные домики, выстроившиеся вдоль главной дороги, обрели «плечи», «глаза», «руки», характер; облака и лужи стали походить на разных животных, а при взгляде на горку два тонких и изогнутых деревца, просматривающихся между домами, вдруг будто сошли с итальянского пейзажа эпохи Возрождения. Сколько раз проходил именно в этом месте, а никогда этих деревьев не видел. Что значит сбросить скорость…
Наша жизнь, наверное, в самом деле, ускоряется, становится более практичной, прагматичной. Если даже в песнях исчезает то, что всегда составляло основу в русском искусстве — поиск, страдание, тоску. Так выстроены все наши сказки и сказания. Везде в основе — путь к счастью, а не достижение его. Радость и довольство традиционно неинтересны для русского задушевного творчества. А теперь, что слышим мы теперь? В местной гостинице, где я остановился, крутят залихватскую песню, в которой повторяются слова:
«Если ты не хочешь быть со мною, блондин,
То тогда оставайся один…»
Быстрое и практичное, в западном стиле, решение конфликта. Зачем тратить время на переживания? Зачем тосковать? Останавливаться, когда жизнь идет на скорости, — непозволительная роскошь. А что не видно уже на этой скорости травы под ногами, тянущейся к твоему лицу ветки с листьями, шмеля, забравшегося в цветок, так велика ли потеря?
В фильмах Тарковского скорость если и есть, то как контраст с природой. Камера если и двигается быстро, то мимо искусственных предметов, созданных человеком, например в «Солярисе». И наоборот, чем ближе к природе, тем пристальнее объектив. И тут оказывается, что исчезает потребность в словах! Разве надо что-то объяснять, когда видишь течение воды в реке или ручье, плывущие облака или огонь костра? А для простых человеческих действий разве нужно объяснение? Например, для сцены в «Андрее Рублеве», когда народ всем миром поднимает колокол, а итальянские гости на своем языке обсуждают происходящее, и переводчик молчит… Можно подумать, что Тарковский специально создавал сцены, которые не требуют слов. Но если вспомнить о его отношении к природе, о его восприятии ее, то, наверное, так и было. Во всяком случае, есть воспоминания композитора Эдуарда Артемьева, много работавшего вместе с Тарковским.
«Он говорил,— пишет Артемьев, — что мечтает снять фильм с единством времени и места… снимая овраг, спуск к реке, траву, ребенка, и передать при этом ощущение космического… Киноязык не готов, наверное, к выражению философских идей. Он уже хотел бы снимать что-то с минимумом разыгрывания…Как это противоречит массовому кино, в котором преобладают боевики как жанр, когда смена впечатлений не оставляет места пристальности и терпению. Ау нас вся культура построена на терпении, на вере, надежде и любви, причем на любви-ожидании, любви-надежде, любви-вере, а не любви-близости»…
У Тарковского все фильмы выросли из отечественной культуры, которая по своей пристальности и терпению, теперь это очевидно, вышла из природы. Из той непредсказуемой природы, к которой, как в Зоне в «Сталкере», нельзя подходить с позиции силы. Только наблюдая, изучая и спрашивая разрешения. А традиции переустройства мира, которыми мы всегда так гордились, фразы типа «философы до сих пор объясняли мир, мы пришли изменить его!» или «мы не должны ждать милостей от природы, взять их у нее наша задача!» приводят к непоправимому: река, остановленная плотиной, превращается в «болотину», а человек, окруженный удобствами, сотворенными собственными руками, — в потребителя, несущегося на машине, у которой отказали тормоза.
Что делать? Как вернуть пристальность и терпение к окружающему миру, которые мы постепенно утрачиваем? Идеи есть. Что-то уже делается в Юрьевце.
«Со взрослыми пока ничего не получается, —вспомнились мне сказанные на встрече в Доме культуры слова краеведа Бориса Александровича Владимирова, — с детьми вот начали заниматься родниками, приводить их в порядок, паспортизировать. Ведь вода у нас – исключительная»…
Если не забывать о том, что вода — живое существо, как напоминал почти в каждом своем фильме Андрей Тарковский, то еще не все потеряно.
Герман Арутюнов.